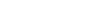Голубь мира нашего двора
«У него остался один палец, – остальные взяла проказа, – но и этого было довольно, чтобы жать на курок, когда очередной «инглезе» делал попытку проскочить, он бил, бил, – раскалившись от непрерывной стрельбы, винтовка жгла – сожженная кожа шипела, но и тут помогала проказа, – прокаженные не чувствуют боли…» – я читал, не мог оторваться, поглядывая на свой, сгибая и разгибая его, – это здорово, не чувствовать боли, особенно если пытают или в бою, – все можно выдержать – тот уже обессилел, а ты – раз! Раз! боковой, апперкот… Неважно, что ты один, «и один в поле воин», вот только остальных пальцев жалко…
– О-о! Новое дело! Все дети как дети, давно на воздухе. А этот читает?! Сколько можно читать! На! Кушай! Очень полезно от всего. – И бабушка протянула кочерыжку, капустную, – все знают: если шинковать – от кочана остается белый столбик, хрустящий пальчик, маленький обелиск…
Меня будила бабушка. Дедушка уходил на работу рано. Дедушка работал, а бабушка – нет. Нет, неправильно. Дедушка работал на работе. А бабушка – дома. Нет, тоже неправильно. Бабушка – боролась. Вот! Правильно! Бабушка воевала, вела активные боевые действия, сражалась на всех фронтах!
– Арбайт, арбайт! – любил повторять дедушка, и я представлял двухколесную повозку, в которой сидят все наши, и я, и кошка Пупка, а дедушка Яша, как ослик, тащит арбу по дороге жизни. Но бабушка от Яши не отставала, хотя и не ходила на работу. «Директорша! – прозвали ее во дворе. И Соня сражалась, как королева! Но то были ни Яшины враги на работе («Не дождут!»), и даже не соседи («Есть перед кем унижаться!") – а тополя и голуби, тараканы и мухи, моль одежная и пищевая, пыль и затхлость, и налет в унитазе. «Мириться с несвежей постелью? Или, не дай бог, пищей?!» И боролась с тем, чтобы чего-то не было или было что-то не то, не самое лучшее, – то есть за здоровье ребенка, то есть за усиленное питание, за хорошие добротные вещи, за чистоту, наконец. И солнце – главный союзник бабушки – указывало, что не так, где, например, завелось, и надо мгновенно протереть-пропылесосить, чтобы малейшей пылинки, чтобы даже мальки моли не имели ни единого шанса, вынести на балкон, вытрусить на чью-то голову («А нечего шляться под балконами!»), развесить, набрать свежего, морозного воздуха.
Я тоже бабушке помогал. И Пупка, наблюдая, как бабушка воюет и трудится, тоже гоняла голубей на балконе и ловила бы, играючись, тараканов, но бабушка над ними уже не раз праздновала победу.
Балконы были далеко не у всех, не во всех квартирах. У нас балкон был. На верхнем, последнем этаже. С нашим балконом и тополя стояли вровень, как одноклассники, и птицы, обычно слетающие с неба, жили здесь по соседству, и солнце было по размеру больше, потому что ближе.
Если не считать угрюмой коробки котельной с черной трубой, вид с нашего балкона открывался всем на загляденье. Прежде всего, захватывала дух высота, как-никак, третий этаж! И дали - дали вокруг! – частный сектор и дачи выше второго не поднимались. Если бы не тополя, и летом на западе можно было бы рассмотреть дом генерала Федонина с теремком-голубятней, базар и окружную дорогу. С севера, правда, уже подпирали новостройки, но восток и юг были еще нашими: блестело далекое озеро, и лес темной полоской лежал на горизонте.
Наш балкон выходил на улицу. То есть двора, сараев и за сараями, погребов, а также голубятни видно не было. Зато все было слышно и понятно: кто куда идет или собирается, с чем возится и во что играет. Вокруг дома всегда играли дети, не считая грудных, психической Эльки, которую не выпускали, а также Мишки Калицкого.
«Сын Зельдина». Нет-нет! К тому киноартисту эта история отношения не имела. Это все Рудичка. И рассказала бабушке по секрету, клялась, что сама видела. И по двору распустила. «А почему на фамилии матери?» Конечно, не единому ее слову бабушка не верила. Моя бабушка. У Мишки бабушки не было. У него вообще никого не было, кроме голубей. И то – чужих.
Мишку у нас во дворе не дразнили. Во-первых, боялись. Не посмели бы. А, во-вторых, как? «Каликом»? Самого, можно сказать, рискового, боевого? Чаще всего говорили – «Калицкий» или «Мишка Калицкий», хотя другого Мишки ни у нас, ни в общаге не было, ни в школе.
Вот и моя бабушка – и то за глаза – «сыном Зельдина» называла его редко, а так по-разному. Сначала «бандит», потом «Мишенька», а потом снова и «бандит», и «проказник», но иначе, по-другому, веселей, восторженней, что-ли…
С Мишкой я познакомился, когда мы переехали в Святошино. Он жил в однокомнатной, на втором, почти под нами. При желании, перегнувшись через балкон, можно было подсмотреть, чем он занят, и бабушка, оглянувшись, так и поступала, крепко схватившись за бельевые веревки. А мне – запрещала. Не говоря уже о том, чтобы зайти.
– Нет! Ни за что! К этому бандиту??? – и делала глаза такие, что я и не просил. Тем более, основания у нее были. Он жил сам, один. А чему такой может научить?!
Мать, правда, приезжала к нему изредка, плакала, оставляла денег. А отец?.. О нем Мишка обмолвился лишь однажды, когда вынес во двор настоящую боксерскую перчатку:
- Папаша прислал. Накоплю, вторую куплю. А-ну! – и протягивал руку, как на ринге, чтобы кто-нибудь подтянул шнуровку. Перчатка была черная, кривая какая-то, и била больно, особенно если шнуровкой.
- Стой! Да, стой! – кричал он, поправляя стойку, показывая «глухую» защиту. Как ни закрывайся, а он все равно попадал, и больнее всего доставалось рукам и ушам. – Да, стой! Да, не так! – И еще тыкал сбоку, в челюсть или снизу – апперкотом. И надо было терпеть. Перед Мишкой слабым, а тем более плаксивым быть было нельзя. Сам-то он никогда не плакал. И дрался безоглядно. Ни жаловаться, ни старшего брата у него не было. Сам, во всем.
Взять хотя бы деньги.
- На шестьдесят рублей, допустим, – замечала Соня, - жить можно. Рудичка живет. Но что это за жизнь? Кефирчик, батончик – моим врагам. И Рудичке расти уже некуда. А мальчику надо питание, белое мясо, бульончик.
Мишка жил под нами, немного сбоку. Если перехилиться через балкон, было интересно, чего он делает - один, без родственников. Тетка жила на Подоле. Мишка ездил к ней на праздники, и обратно тащил большую кошелку, полную всякой всячины. Каких-то кулечков, свертков, банок разного размера и пирогов. Пироги он прятал в хлебницу, а остальное – рассовывал на кухне в буфете и в холодильнике, но что и куда – видно уже не было. Второй этаж уже затеняли тополя.
Поначалу пух до нас не долетал. Окна большой комнаты и кухни выходили на юг, а спальни – на восток. И солнце в доме было всегда, с раннего утра и почти до заката. У нас ему было хорошо: светло и вольготно, и много чистого воздуха, оттого что бабушка все время проветривала. Плюс идеально вымытые и натертые газетой до блеска оконные стекла. И поселялось оно там, где хотело – так много зеркал, хрусталя и полировки было накоплено. И желто сияло, и масляно на покрытом импортным лаком паркете (недавно освежили), и зеленоватым туманом млело в глубине горки, в золотистом чешском стекле, а на закате – стрелами – рикошетом из зеркальной полочки – прямо в хрустальную люстру, иглами – на радужных ее висюльках. Солнышку жилось у нас в изолированной квартире покойно и тихо – над нами никого уже не было – только чердак и крыша, никто не скакал на голове. Только голуби на чердаке и козырьке балкона – топ-топ, топ-топ, гу-гу, гу-гу… Только голуби и тополя.
Когда мы жили на старой квартире, старуха над нами по ночам катала шары. Встанет в три часа ночи и катает: шшшш! – туда, шшшш! – обратно, туда…, обратно…. Правда, она клялась, что никаких шаров у них не было, но бабушка не идиотка, она ясно слышала. Катает! И потому мечтала о верхнем, последнем этаже. «Чтобы никто не скакал на голове! Ты слышишь?!» И дедушка кивал. И, в конце концов, добился. А что? Бабушке возражать – себе дороже. Не случайно и в доме зовут ее – «Директорша», как будто дедушка – директор.
– Не понимаю, – замечала периодически бабушка, - он же фактически не директор. Но Рудичка, каждый раз улыбаясь в усы, в ответ тактично провозглашала, что да! фактически, нет, но на ком вся фабрика держится?
Так дедушка и получился на фото в альбоме: сидит за большим столом, в руках – ручка, весь в костюме и галстуке, значок «ВОИР» на лацкане, и глядит на фотографа, словно тот только что спросил его, как делать, а дедушка сказал – «так и так» и объяснил еще раз, пристально всматриваясь ему в глаза, как подчиненному.
«Директорша» звучало почти как «генеральша», а может и покруче, поскольку генерал Федонин, несмотря на высокий рост, выправку, строгость и генеральскую дачу, должного эффекта на нее не производил. Во-первых, он был очень старый. Говорили, что у него на даче, еще до революции жил Директор Земли? – как это может быть, непонятно…, ну, до революции все могло быть – такой был старый этот генерал! – В русско-японскую он уже был поручиком голубиной связи. А во-вторых, – голуби. Он был вдовец. Но если бы бабушка была его вдовой, она бы ни за что этого не допустила. Голуби??? Она бы показала ему голубей. «Солидный человек, заслуженный…»
А голуби были, каких ни у кого нет – николаевские, тучерезы вертикального взлета. Он выпускал сначала одного – и тот сразу летел вверх – не кругами или дугами, как все голуби – а сразу, непрерывно махая, вверх, – потом, секунд через пять – второго, и снова считал до пяти – и так – третьего, – четвертого, – пятого… Первый уже превращался в точку и следом за ним, цепочкой, с равным интервалом выстраивались остальные, словно первые солдаты-разводящие с флажками на параде в Москве… Красота…
– Смотрите, смотрите, – обращаясь к Рудичке, указывала бабушка пальцем в направлении его голубятни, – уже полез! Генерал! – И Рудичка мелко смеялась тоненьким хиханьем:
– Представляете, София Михаловна, Ваня-истопник ему ремонт делал, а генерал денег не дал – голубями расплатился.
И уже бабушка делала в ответ пару смешков. – Генерал…
Пока тополя были маленькие, и пух до наших окон не долетал, - голубиное племя бабушку не раздражало. Но годы шли – а тополя растут быстро, как дети, и вот уже не только вызывающий аллергический насморк и кашель, а с возрастом, с бессонными по разным причинам ночами, вдобавок еще – там, на чердаке и по козырьку балкона, и по подоконникам - топ-топ, топ-топ, гу-гу, гу-гу… – «И так уже нервы ни к черту, кто же это выдержит? – возмущалась бабушка, а тополя росли и вот уже солнце не могло добраться, только чуточку по утрам и изредка зимой, а летом – летом! – в комнатах поселялся сумрак, из-за этих тополей ничего не сияло, а богемского стекла – протирай не протирай – словно золотого тумана и не было. По вечерам, когда зажигали люстру, как будто бы – да, праздничность возвращалась – а днем? Платить за свет не напасешься. Четыре было мало, а все – восемь – даже неприятно слепило. И, что не говорите, еще ни одной хрустальной – даже импортной! – люстрой солнца не заменишь… Наконец, – и это была уже форменная наглость! – одна ветка доросла до окна и полезла в окно кухни! – на что бабушка схватила секач, и рубила наотмашь, размахивая, и срубила бы даже ценой собственной жизни, но дедушка схватил ее и втянул обратно, медленно валившуюся из окна кухни, точно раненый в атаке Павка.
Бабушка тоже отличалась бесстрашием. И тоже, наверное, как генерал, гоняла бы голубей, взобравшись на самый краешек голубятни, если бы не фактор солидности – «Директорша», и возраст, и – как их можно терпеть?..
«Как можно любить голубей? Гадят – и на подоконники и на бельё. Я столько сил затрачиваю, чтобы белоснежное, крахмальное – а ему – раз! – и вся работа насмарку. А эти курлы-курлы, курлы-курлы… с ума можно сойти. Крысы – те хотя бы глаза не колют, не слышно - не видно. А эти? Еще и заразу разносят. – А вы разводите, э-э, – говорила она Ивану, истопнику, говорила с укоризной, а Иван только разводил руками, мол, что ж поделать, зато в небе, в небе-то… Извинялся. Впрочем, на Ивана бабушка, как бы сейчас выразились, не наезжала. Это Рудичка все не могла успокоиться – Как Вы можете это терпеть, София Михаловна?! К батареям прикоснуться нельзя! В армию не взяли – он же бабтист, а детей настрогал – давай ему квартиру. Я думала, того света увижу от этой жары. Вот он и палит, угля не жалеет, дышать уже нечем, зарится…
Ваня работал истопником и был баптистом. Хотя ничего баптистского у него не было. Говорили, что когда-то ходил он кочегаром на большом пароходе. Я так и помню его – в ватнике, под ватником тельняшка, в руках - огромная лопата дымящейся жужелицы. Он выносил и разбрасывал ее по скользкой дорожке у дома, а, разбросав, не торопился обратно, вдыхал полною грудью морозный и выдыхал клубящийся воздух и улыбался по-особенному. «Поэтому, – говорила бабушка, – и ютится». То есть вся его большая семья – жена, тетя Валя, трое малолетних детей, кот и два голубя ютились в маленькой комнатке при котельной. Работал он хорошо, в доме всегда было тепло, даже жарко, всегда можно было открыть балкон, все окна и двери, проветрить; бабушка это ценила и обычно что-нибудь передавала ему под праздники
– На! Занеси Ване! – вручала мне сверток, и там обозначались то с полдесятка яиц, то хрустели конфеты, мягким теплом и запахом выдавали себя пироги или тяжелела баночка варенья. – Что он имеет?! Копейки! – констатировала бабушка.
Но и меня тоже чем-нибудь угощали, а однажды поили чаем с американскими конфетами – тетя Валя достала две из холщового мешочка с Иисусом Христом на картинке. Он улыбался по-особенному, а над ним – в белоснежных лучах висел голубь, точь-в-точь генеральский.
У Вани тоже были голуби, но они пропали, подохли, или отравили, точно не знаю, – и он было зарекся. А тут генерал подарил. Парочка тучерезов! Белый, именно белоснежный, и Колумба, голубка, сиреневая, маленькая. Генерал подарил. Сам генерал Федонин.
– Причина вашего мора – не яд. Отнюдь. – Генерал выражался веско. – Но! – тут он поднимал палец, – без участия человека не обошлось! Возьмем, к примеру, орнитоз… – и читал целую лекцию о том, что голубей заразили люди (как это могло быть – непонятно), и голубям назначено нести этот крест (какой крест?), искупая, спасая от проказы (как? кого?)… Я не понимал.
О птичьем гриппе тогда не знали, а вот орнитоз – зловещую голубиную проказу – мясистые наросты на клюве и лапках, особенно на лапках, изъеденных, культяшных, когда остается только один коготок, остальные отпали и голубь припадает и падает, а кое-кто уже следит за ним из-за штакетника, – орнитоз – птичью проказу – знали все, каждый ребенок, и бабушка, словно предчувствуя приход птичьего гриппа, гнала их всеми возможными способами, начиная с гвоздей и стекла, битого, на карнизах и чердаке, и заточенных скобок рогатки, и фанерного ящика с распоркой, и яда…
– У меня, – сообщала Рудичка, – будет для Вас, София Михаловна, такой яд, пальчики оближете. Все убивает. Мухи? Мух! Миши? Миш! Ашот, – вы же знаете Ашота керосинщика, – обещал мне на вторник.
И бабушка кивала, выказывая будущую благодарность.
А было бы ружье… Любое: воздушка или мелкашка… Если б ружье, бабушка наверняка бы заделалась снайпером и, прячась за гардиной, выжидала бы нужного момента – и… бах! бах! Только бы перья летели…
«Все остальное не имело значения. Был узкий проход, по которому должны были пройти англичане. И он – последний маори – с нарезной английской винтовкой – вон за тем валуном. Ноги его были прострелены. Тело и лицо изъедено проказой. Все пальцы, кроме одного, сгнили и отвалились. Но патронов было довольно. И он стрелял и стрелял, а они снова и снова пытались и валились один за другим – тупые клювоносые инглезе – они надумали его перехитрить! – один за другим – пуля каждый раз находила новую жертву. Он стрелял и, раскалившись от непрерывного огня и палящего солнца, оружейный металл жег остатки кожи и мяса на культях и на последнем пальце – но он уже не чувствовал боли – вы знаете, прокаженные не чувствуют боли, а молодые инглезе все валились, глупые, он жалел их, но продолжал стрелять…»
Я читал, забывая обо всем, и о бульоне с куриными потрошками, с маленькими разного размера яичечками, которые, как планеты, кружились бы в пространстве тарелки, если бы я отвлекся и водил ложкой по кругу, чего бабушка тоже не любила.
– Прекрати сейчас же читать! Я сейчас же заберу книжку и спрячу так, что ты ее не увидишь! – пугала – и я умолял «еще немножко, до точки, мне осталось…» Но суп остывал, и бабушка была непреклонна. Мне бы точно пришлось не читать, если бы не Рудичка, которая позвонила, и зашла, и повела бабушку на наш балкон, что-то показать.
– Я удивляюсь, София Михаловна, – извинялась Рудичка, – как вы можете это терпеть?! – указывая на голубей, кружащих у мишкиного балкона, – он же их кормит, он специально их подкармливает, и они все перелетают к нему. Смотрите, – науськивала она, – смотрите!
И бабушка убеждалась: Рудичка, кажется, права.
До сегодняшнего дня бабушка тоже его не одобряла, особенно после этой истории с Рудичкой, его соседкой по лестничной клетке, которой он, Мишка, якобы стучал по ночам в дверь. Стучал и прятался.
Справедливости ради, ни в одном из этих грехов бабушка лично уличить его не могла. А Рудичке две стенки свести труда не составит, тем более, что в его лице она имела врага, он вполне мог стучать ей по ночам в дверь. А не надо было распускать, что он сын Зельдина. Кто ее просил?! Но – и тут бабушка опять же ради справедливости считала своим долгом с ней согласиться – в том-то и дело, что мог: и фашистский знак на сторожихином заборе, – «поверьте, София Михаловна, - это еще тот субчик!» - и в дверь по ночам, и теперь вот – приманивать голубей. Кроме того, он должен был бабушке деньги – копейки, в сущности, но это тоже общее впечатление не улучшало. «Рудичке точно он стучал. Больше некому. Я бы сама стучала, - такое выдумать. А не надо задевать – и стучать не будут! Но если разобраться, что она такое сказала? Не Гитлера же в конце концов сынком, и не клоуна какого-то. Отец – красавец, киноактер. Что тут плохого? Чего старуху пугать, третировать?!»
Вот и сейчас голуби действительно кружились у мишкиного балкона, хотя явных признаков приманивания бабушка не замечала. Подозрение окончательно созрело в гастрономе, когда он брал пшено – шесть кг! Не рис, не перловку – пшено. «Но за что?! Что я ему плохого сделала? Он же знает, как я их ненавижу. Значит назло?? Специально!»
Вот тогда бабушка и невзлюбила его по-настоящему и перестала смотреть в его сторону и принялась пилить Яшу, мол, как это не найти управу, не вывести на чистую воду, а санстанция? а милиция? В конце-то концов! И чем больше Яша отнекивался, чем больше помалкивал – тем сильнее и глубже проникало в бабушку это чувство, тем больше и демонстративнее отворачивалась она при встрече с Мишкой, тем ярче возникали картины мести, пока еще непонятно какой.
Помирились они неожиданно.
– Здравствуйте, тетя Соня! – первым поздоровался Мишка, когда мы вышли из подъезда, чтобы идти на базар.
– Здравствуй! – сквозь зубы ответила бабушка.
– А Вы не на базар?
– На базар.
– Ой, а Вы не возьмете мне маленькую головку капусты. Суп хочу варить, и голубцы. Я деньги сразу отдам.
И бабушка согласилась. И всю дорогу, пока шли на базар, бабушка молчала и вздыхала, качая головой.
Тот день я помню в подробностях.
И как, отряхивая паутину, дедушка спустился с чердака. И долго мылся, брился.
И как мы, позавтракав на скорую руку, собрались на базар, но дедушка в последний момент сказал, что ему нездоровится, и мы с бабушкой вышли вдвоем; и тут же во дворе столкнулись с Мишкой; и бабушка имела с ним ту примирительную беседу, о которой я уже рассказывал, и еще он предложил спилить ветку, – ту, что лезла прямо на балкон и в окно кухни.
– Как же ты туда залезешь?
– Залезу! Два рубля дадите?
И бабушка сказала, что всякая работа имеет цену.
Мишка действительно был бесстрашный. Ничего не боялся. Мог броситься на кого угодно, и на Коську из общаги, и на взрослого. Коська был старше, на голову выше и крепче. И бил наотмашь. Разбил все лицо в кровь, и уже даже не хотел, отступал, а Мишка все лез, бросался и снова получал, но лез, будто не чувствовал боли.
И мог залезть так высоко, как никто. И по пожарке. И на крышу голубятни. С Иваном, истопником, они так и подружились. Надо было крышу на голубятне чинить. Иван и сам бы смог, но лесенка и избушка хлипкие, а Мишка – худенький, раз-раз – и уже наверху, на конек сел и лист толя прибил на место. С тех пор Ваня звал его погонять голубей, и смеялся, когда Мишка допытывался: «Что голубей разводить дело, наверное, выгодное? Мясо, пух, перо. Где-то ж, наверное, принимают?»
– Не знаю я, – отвечал Иван, – да и сколько в нем мяса? Нет, голубь – это красота, спасение.
И они, задрав головы, следили, как Белый кружит над Колумбой, и гоняет других, пришлых, и даже ворон – смело, бесстрашно.
Тот день я действительно запомнил в подробностях. И начался он не базаром, и не завтраком.
Лестница для выхода на чердак находилась на нашей лестничной площадке. Я забирался до третьей ступеньки, а выше было уже боязно, и не имело смысла – люк был закрыт на замок.
Дедушке лезть туда тоже не хотелось. Это было видно по всему. Вечером после работы нужен был фонарик, а батарейку все никак подходящую купить не складывалось. И в пятницу, хотя дедушка пришел к пяти, - пока то, пока се. А вот в субботу уже было не отвертеться. Бабушка вышла первая с ключом и какой-то поллитровой баночкой и стала у лестницы. И дедушке ничего не оставалось, как надеть сандалии, и как был в пижаме и майке, полезть, открыть поданным ему ключиком замок, вернее – ключом – замочек, и подняться на третью, четвертую…
Мы стояли внизу у лестницы, и слышно было, как он ходит по чердаку, голуби вспархивают, мечутся, перелетают дальше, а то и вылетают в прорехи под крышей.
Ходил он долго. И я, не дождавшись, отпросился, убежал во двор, и пропустил то, что могло стать роковым в моей жизни…
Яшино лицо показалось в квадрате люка:
– Проемы под всей крышей – забить не удастся.
– На! – мгновенно отреагировала Соня. – Посыпь. – И, поднявшись на одну перекладину, протянула банку с белым порошком. На! Бери! Я жить не могу! – И банка ушла на чердак.
Тот день. Мы вернулись с базара и стоим на балконе. А дедушка – внизу, у тополя. Он держит лестницу двумя руками. Мишка лезет до самого верха, залез, и, ухватившись за ближайшую ветку, подтянулся, забросил одну ногу и вот уже сидит на ней, и также сноровисто, но уже сам – дотянувшись – добрался до той, что лезла в окно, оседлал и потребовал ножовку. Ветка была толстая, пилил он ее долго, и бабушка, и все с замиранием сердца следили, хотя он сидел ближе к дереву, а все равно казалось, что «пилит он сук, на котором сидит»; и бабушка уже не рада и всем видом показывает, что недовольна, что согласилась. Но когда Мишка, наконец, допилил, и ветка рухнула, и он спрыгнул благополучно, бабушка вздохнула с облегчением:
– Слава Богу! – и позвала меня. – На, отнеси это Мише, и дала три рубля.
А Рудичке, крутившейся тут как тут – указала: – Ну, какой бандит? Проказник!
Мишка открыл дверь не сразу. Я протянул трешку: «Бабушка сказала передать…» – «Заходи!» – И повел меня на кухню. «Садись! Будем есть суп. Свеженький. Тебе какой хлеб? Есть черный.» И налил тарелку по самый ободок.
Тарелок с надколотым краем, будто ракушкой, у нас не было. А также - ни битых чашек, ни алюминиевых вилок, погнутых и покрученных, ни эмалированных кружек, побуревших от чая – никаких, ни битых, ни новых – не было, и быть не могло. Тарелки просто не бились. Бабушка мыла аккуратно, бережно, а если, не дай бог, случалось, то уже не подавала ее на стол, а только временно что-то ставила в холодильник или выносила косточки собакам во двор, естественно, уже не забирая обратно, или же опускала в мусорное ведро, куда сразу же, без обдумывания, нужны ли они для штопки – шли перегоревшие лампочки, и павшие термометры, и фужеры с отколовшейся ножкой, которые кое-кто клеил специальным клеем, но только не мы. Одна надколотая тарелка все же была. Но ее не подавали на стол по другой причине – это была память о бабушке Злате – бабушкиной маме – и тарелка была царская, с орлом, кузнецовская.
– А что? – прожевывая, добавлял Мишка, – Голубей есть можно. И нужно! Только хорошо проварить, чтобы убить все микробы и вирусы, и добавить соли. Рудичка еще советует побольше петрушки, чтобы убить запах, а я петрушку не люблю, я сыплю укроп, перец и лука побольше, лук убивает и впитывает яды, например, если жарить грибы, сначала нужно проварить их с луком, если лук посинеет – лучше не есть, значит ядовитые… – болтал, наминая, Мишка… Лук в тарелке был не синий, а слегка голубоватый, но я и так лук в супе не ем, не люблю. Я всегда вынимаю его и кладу на край тарелки. И бабушка уже не ругается.
А Мишка ел все, ел с аппетитом, причмокивая, как дедушка, подбираясь к мясу.
– Что сидишь, мечтаешь? Кушай! Остынет, – бросил он, не прерываясь. А я сидел, доедая хлеб, трогая краешком ложки поверхность бульона. Можно было подумать, что я балуюсь, соединяя золотые кружочки жира в острова, а потом в один, большой – материк, в котором можно было сделать озеро из бульона, а в нем опять остров из жира, поменьше… Бабушка этого терпеть не могла и тоже вот так покрикивала. Но тут было другое. Я не решался. И причины тому были.
Взять хотя бы сам бульон – нечистый, с сероватой накипью по краю тарелки, и какой-то пористой, будто сваренной кровью – на дне – бабушка никогда этого не допускала, не говоря уже о надколотой по краю тарелке с надписью «общепит», рябой алюминиевой ложке и клеенке с дырками, которую как уже не протирай, а в дырках собирается грязь, копится.
Тут мне показалось, что бабушка зовет меня домой! Кушать!
Я чуть было не закричал: «Иду! Иду!» Но никто не звал снова.
На кухне и вообще в квартире у него я был впервые. Он никого к себе не пускал, на порог, а ко всем ходил. Суп есть не хотелось, я жевал хлеб и принюхивался к странному неприятному запаху – смеси шмалёного с чем-то химическим, может быть с газом, сочащимся из конфорок, а может и с сыростным запахом мусорного ведра или чего похуже…
Однажды малой Валерик, указывая пальцем на мишкину дверь сказал, округляя глаза: – А вдруг он – Синяя Борода? И все, конечно, заржали, и стали пугать друг друга людоедами и каннибалами, поедающими – “хочешь глазик? пожалуйста!”- а отрезанные головы чтобы усыхали, скукоживались, - чтобы носить ожерельем на шее. Но рассказывая, нет-нет, а поглядывали на мишкину дверь, откуда сочился этот неприятный сладковатый запах. Может он шел из ведра (почему обязательно из комнаты?) – из ведра, накрытого нечистой фанеркой – круглой, с такой же ручкой, вспученной и пропитавшейся жидкостью пищевых отходов, с ручкой, на которой, - я вгляделся, – запеклись пятна крови. Да, да, крови… А если он заметил, что я заметил?.. Но Мишка как раз доедал суп, а я все не решался…
– Хочешь, покажу, как я ловлю их? Пошли, но сначала доешь, оставлять ни кусочка нельзя, а то будет за тобой бегать.
И я начал есть. Ложку за ложкой, не чувствуя никакой разницы с куриным.
На балкон мы шли через комнату, ту самую, и я успел, несмотря на сумрак, разглядеть, что ничего такого, никаких чучел или повешенных не было, во всяком случае, на первый взгляд. На балконе стоял ящик из-под посылки, фанерный, с неразборчивой надписью: …ская ССР, гор. Ленино…, тов. Зелдяну… Я уже собрался спросить: «А кто это?», но в ящике что-то затрепыхалось, забилось, и Мишка, закатив рукав, как-то странно, с улыбочкой смерил меня… Я не знал… Я хотел уйти, но что-то держало меня, что-то приковывало мои глаза к ящику, к этому шуруденью, к мишкиной улыбочке и рукаву… И тут меня позвали, в самом деле позвали, бабушка закричала с балкона, и я сразу побежал домой, ничего не увидев.
– Сколько можно кричать?! Я кричу-разрываюсь. Садись, – и налила тарелку бульона.
Я сел, взял ложку. «Как же он это делает? Я бы не смог, и бабушка не смогла б, а дедушка курицу резал, и она вырвалась… Нет, ножа у него в руках не было… Он закатал рукава. По локоть… И вот он идет к ящику танцующей боксерской походкой. Подходит, а там уже что-то трепещется, а с боков в ящике будто бы такие отверстия с рукавами – как на ящике для перемотки пленки в фотоателье, – такие черные рукава внутрь, - и он, смеясь, засовывает руки в рукава, и черные руки в темноте ловят его, и хватают, наконец, одна за спину, другая – за голову – Рраз!
Я выронил ложку. Снизу накатило. Суп уже не лез.
– Что ты такой бледный? Тебе плохо? Ты что-то кушал у Мишки? Что?
– Ел. Суп.
– Какой суп? Зачем?!
– Из голубя, – ответил я почти шепотом.
– Из чего?? – переспросила Соня.
– Голубиный… – пугаясь и самого слова и бабушкиных округлившихся глаз.
– Что?! Из какого го-, – бабушка поперхнулась, – из какого го-лубя?
– Из наших… – я показал глазами на потолок. – Мишка их ловит..
Бабушка осела на стул и приложила ладонь ко рту. Бабушка испугалась?! Нет, не может быть. Бабушка ничего и никого не боится. Я никогда не видел такого…
В дверь позвонили. А бабушка, словно не слышала. Она словно окаменела, и я пошел открывать. Это был Ваня. Спрашивал, не залетел ли к нам случайно Белый – Рудичка будто бы видела – то ли к нам, то ли к Мишке? Нет? Жаль… Извините, ради бога… Да, пропал… Куда подевался?.. И кивнул без обычной улыбки, пошел вниз…
Белый?! Нет!!! Мишка сварил Белого… Мне хотелось бежать, убежать не знаю куда, но я сидел и не верил… А если?… Если бы то был не Белый, было бы, наверное, легче, не голубь, а курица, я, конечно бы, не смог, и бабушка, а дедушка курицу резал, и она вырвалась и бежала по квартире, выскочила на балкон…
А Белого, Белого никак нельзя, невозможно – тошнота снова двинулась, – Голубь мира!
Но если Мишка сварил Белого, то… я не решался самому себе сказать «хорошо» или «не страшно», потому что у Белого не было еще признаков проказы. Но он не мог его сварить, не мог, не мог! – И тут же другая мысль забегала, зашептала: – А ведь мог, мог свернуть ему шею, не глядя, нащупав под посылкой, под ящиком, а потом что? Жалко, конечно, но не выбрасывать же. Мишка ни за что бы не выбросил… А с другой стороны… Да нет! Белый бы никогда туда не полетел и в ловушку не полез, он только Ваню и признает, только на его свист… Но Мишка ведь чинил крышу, и он сыпет поджаренное пшено, а все голуби…
Снова снизу подперло. Тошнота кинулась.
И тут я понял, я догадался: – Это проказа. Это наказание за то, что голубей есть нельзя. Они – красота, мир. А я ел Белого!.. Самого можно сказать… Вот они летят к небу, вверх… Генерал Федонин. Строго глядит, пристально… И все сразу стало ясно, как дважды два. Проказа у Мишки, а теперь и у меня… Он не чувствует боли, Мишка не чувствует боли – «какой он бандит – он проказник» – я глянул на руки – ничего еще не отвалилось, но что-то уже было не так, поташнивало, мутило… Как же я мог?..
Меня вырвало прямо на стол.
– Яша! Яша! – закричала Соня, и крик ее вырвался, как птица, и бросился в спальню. – Яша! Сюда! Ребенок отравлен! Яша!
В спальне закряхтели, и не слишком торопясь, зашлепали шлепанцы, и дедушка, войдя, поглядел сначала на Соню, потом на меня и спросил, что за гвалт.
– Он ел отравленного голубя!
«Какого отравленного? – я не понимал о чем речь. – Что она выдумывает?» – возмутился, а вслух произнес:
– У меня проказа… – слезы душили меня. – Я не хотел, я не ловил. Это Мишка!.. Я боли не чувствую, кажется…
На что Яша тут же ущипнул меня за ляжку. Я ойкнул.
– Ну вот, как минимум, проказа отменяется. – сообщил дедушка. И добавил глубокомысленно. – Хотя, казалось бы, что может быть лучше – не чувствовать боли? А вот и нет – боль испытывать надо. Боль, хоть и не добрая, а жизни учит. Больно? Ничего, есть и похуже – к своей что? – тут дело, как говорится – личное, а вот чужой боли не чувствовать… О, это похуже, поверь, похуже…
Я ничего не понимал. Слезы текли, и мутило. Соня смотрела на нас, как на идиотов. И Яша строго, но негромко закричал:
– Ну что ты стоишь? Надо промыть желудок! Есть кипяченая?
Я не буду описывать, как бабушка сняла с подоконника банку с предварительно закипяченной на всякий случай водой, а дедушка достал из аптечки пузырек с марганцовкой и вытряхнул из него ровно одну крупинку – в банку, и она пошла вниз, как подбитый самолет или раненый голубь, окрашивая свой путь разбавленной сиреневой кровью. Это и в самом деле мало кому интересно и остается в памяти непонятно для чего, как неизбежные отходы прошедшего времени и невозможно избавиться от них, а только прячешь куда-нибудь поглубже, и хранишь, пока не затошнит. И описание гусиного пера, которым мучили меня, вряд ли может быть интересным. И как я отлеживался, измученный, пока не стал засыпать…
Мы стояли в мусорнике – я и Ванины дети – и перед нами на нечистом полу лежал, откинув одно крыло – Белый. Грудь его была в крови, лапки поджаты и когти скрючены, будто он хотел сжать кулаки, как боксер, стать в глухую защиту, или, сцепив зубы и уже не чувствуя боли, жать и жать на курок, но то ли силы…, то ли патроны…
Я стоял над ним и не заметил, как дети ушли и вернулись, появились снова. Они несли полные пригоршни пуха – тополиного пуха – и принялись посыпать, выходить и нести снова, и посыпать. Пух разлетался и намокал в мусорной жиже, но они несли, снова и снова, и вот уже пуховой холмик накрыл и грудь, и крыло, и только лапки, лапки со скрюченными пальцами еще чернели.
Я приоткрыл глаза. В комнате было сумрачно. Дедушка и бабушка сидели рядом с кроваткой, и Яша говорил, объяснял, и голос его звучал монотонно, негромко:
– Рудичка, Рудичка… Это такой яд, как твоя Рудичка… Ну, подумай сама, откуда у нее может быть? Она просто забыла, что в банке, а выбрасывать жалко. Вот она и занесла. И потом, она же сама голубей ловит, и в суп. Что же она, себе враг, своими руками?..
– Ребенок проснулся, – сказала бабушка. – И зажгла торшер.
Дедушка посмотрел на нее фотографическим взглядом и, переведя глаза на меня, – потеплевшие глаза, ласковые, – добавил:
– Я потому и не сыпал ничего. Ну, что? Уже не тошнит?