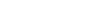Свой мастер
– Нет, ты можешь представить: она мне заявляет, что этот кокошник форменный, то что она стоит в магазине за прилавком, ей делала Бэба на заказ! Моя Бэба. Ну? Как тебе это нравится? Врет, и глазом не моргнет. Как будто у Бэбы больше дела нет, как якшаться с какими–то торгашами. Я у нее записана на сентябрь. А эта торговка: – Азочка! Как вам идет! – Ну! Будет с ней Бэбка так цацкаться? Так лебезить, перед кем, спрашивается… – продолжала Соня, но уже как-то не слишком уверенно, прищуривая то один глаз, то другой, задумываясь о чем–то. И дедушка понимал: с этой шляпочницей дела не будет. Соня вскоре узнает, что она портачит, или стала брать безумные деньги, и вообще слышала, что Галина Порфирьевна (жена нашего министра), тоже от нее ушла.
Значит, придется подыскивать новую свою, как раньше говорили, модистку, интересоваться, сколько берет, и кто у нее пошивается, потому что это дома Соня верховодила, а за пределами – терялась, контакты налаживал Яша, чтобы уже потом бабушка говорила «моя косметичка» или «моя шляпочница», или же «мой мастер», причем всегда было ясно, о каком из мастеров – о дяде Коле, парикмахере, о сапожнике-армянине, о цековской меховщице Гале или о Проце идет речь.
И все же сказать о Проце – «мой мастер»… Нет, ни Соня, и никто так не говорил. Проц! – к которому – «легче в рай попасть, чем к нему» – так говорили – Проц располагался уже в ином мире, мире богемы, где даже слово «министр» пишется с маленькой буквы.
На примерки к Процу – а мог ли быть кто-то другой? – они ходили вместе. И ожидали, когда мастер освободится, и выйдет из–за кулис точно Наполеон в исполнении Ефима Березина–Штепселя, небрежно, но бережно неся на левой руке что-то маленькое, переброшенное, которое только еще думает стать демисезонным пальто. И помогал надеть, а Яша внимательно присматривался, оглядывая, как сидит, но Процу замечаний не делал, тот всё обнаруживал сам, разрывая наметанное и тут же вынутыми изо рта булавками прихватывая заново. Это Соня, крутясь между тремя зеркалами и двумя мужчинами, говорила, что ей кажется, и здесь что–то, кажется, узко, а здесь тянет, и тут морщит, и мужчины реагировали молча, пока, наконец, Проц не прекращал это уверенным: – Хорошо. – И осторожно принимая, снимая наметанное, первым выходил из примерочной. То есть было о чем поговорить, и выслушать Яше на обратном пути. Но он, сын и внук портного, отвечал со знанием дела, где уйдет, где уберется и разгладится, потому что при ее фигуре, нивроко, ни скрадывать, ни подчеркивать нужды нет, слава богу. И Соня, успокаиваясь, уже шла рядом довольная, и видела себя в обновке на Крещатике.
Возвращаясь домой от Проца, принимавшего на Ленина, можно было не выходить на Крещатик. Но не выйти на Крещатик в новом, только что сшитом, элегантно облегающем демисезонном пальто, когда встречные дамы, заглядываясь на видного Яшу издалека, переводили затем взор на нее, и прищуривались, понимая, откуда и шляпка, и пальто, и туфельки, и видели, как все это добротно и как сидит, не говоря уже о личике без единой морщинки, – ради этого стоило и терпеть Проца, и переплачивать за крэм, и менять шляпочниц вслед за Галиной Порфирьевной.
Что же касается встречных мужчин, то, что я могу вам сказать?
Соня была красавица. Белоснежное точно фарфоровое личико, носик, губки бантиком. А ресницы – длинные-предлинные завивающиеся свои, а глаза – не глазки – очи цыганские с карими в золотых блестках зрачками: когда бабушка засыпала над сказкой, я приподнимал веко – и он золотился. А ножка – маленькая, японская, чуть ли не тридцатого размера, как у Золушки в исполнении киноактрисы Янины Жеймо. А фигурка! На групповых фото ее всегда ставили вперед и в центр. Так было, судя по надписям на обороте, и в Полтаве, и в Чкалове, и в Саратове, и в Кисловодске.
И вся она была такая – Ах!
Даже когда молоденькая Сонечка превратилась в Софочку, Сонюру, а затем и в Софию Михайловну, «пани министершу», Яша звал ее по-прежнему: «мамочкой», «солнышком», «золотцем», «рыбкой». Несмотря на частое употребление, эти слова у него каждый раз загорались заново, играли, вспыхивали; казалось бы – пустой звук, дешевые бирюльки местечкового угодника, стертые, ничтожные, словесная пыль – а в любовном прищуре Яшуниного любования теплели они и оживали и, воскреснув в ласковых оборотах и интонациях, имели, как не раз подчеркивал дядя Лёва, категорический успех. Может быть, потому что все объекты его любви соединились в одном предмете, говоря философским языком? Но скажите, зачем и для чего об этом думать? Просто ему хотелось холить, хотелось радовать и угождать, и одевать в самое лучшее, чтобы не стыдно было выйти, наряжать, привозить, доставать, будь то газовое полупрозрачное с буфами, или с глубоким вырезом, открытое, или греческие с длинными ремешочками, подчеркивающие завязочками мягкость ножки, босоножки, или такую итальянскую ночную рубашку, что Соне было неловко надеть, и она отдала ее маме, но и мама такое похабство не надевала.
Когда они выходили вдвоем, Яша надевал только колодки, орден не надевал. Все равно на орден уже никто не смотрел.