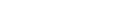Высоцкий
1
Был он намотан на жёлтую пластмассовую бобину, залапанную, с пузырем от плохого натяжения пленки, и зажеван, заклеен в самых надрывных местах.
Высоцкий звучал хуже всех, даже хуже Лещенко, Петра, хотя тому было лет 50, а Высоцкому – года три, не более. Слова приходилось разбирать, угадывать, отматывая его назад, ручка переключения болталась и пленка могла порваться, как живая. Это теперь она запрятана в закрученную винтами кассету, а тогда была ближе, роднее, она была шершавая на ощупь и ломкая, как Тип-2 или Тип-6, и новая, глянцевая, на лавсановой основе - Тип-10, - дорогая.
Высоцкого писали на старой, потому что он все равно хрипел и после шестой или восьмой перезаписи заговаривался, невнятил, а маг и сам тянул и приходилось помогать бобине пальцем от выматывающих душу завываний, будто случайно переключили с 9-й на 4-ю скорость.
Я присматривался, как заправляют пленку, проводя ее мимо головок, и ловко набрасывают, подтягивают, переключают на “Воспр”.
Пленочка натягивается, и если не рвется сразу – дрожит и колышется ткань у динамика – а если рвется – правая бобина шелестит хвостиком быстрее, а левая останавливается, замирает.
Магнитофон "Днепр-10А" состоял из полированного красного дерева, ткани, покрывающей динамики, пластмассы под слоновую кость и металлических частей лентопротяжного механизма. Он продавался на четырех тонких, полых пластмассовых ножках с металлическими спицами внутри и всем своим журнальным видом олицетворял природную неустойчивость и предрасположенность к падению.
Наверно, об этом и думала Лидия Алексеевна, когда говорила, что детям от магнитофонов ничего хорошего ждать не приходится. Она предчувствовала, наверно, что не пройдет и года, как в самый ответственный момент - во время исполнения Государственного гимна СССР на глазах комиссии районо вдруг порвется лента, а потом начнет отвратительно тянуть любимую песню Владимира Ильича Ленина, а под конец еще хуже – пленка поскачет клоунски быстренько и героический
барабанщик с огнем большевистским в груди и построенные на линейку начнут хихикать и прыскать, т.е. важное общественно-политическое мероприятие окажется под угрозой срыва.
Тогда еще трудно было определить, вызваны ли эти неприятные события недостатками конструкции магнитофона, или же его врожденно-вредным свободолюбивым характером, но так или иначе - на линейках опять зазвучал проигрыватель. Неоправдавшему доверие выкрутили ножки и поселили на столе в подсобке физкабинета; и ко всем, чтобы поздороваться, он протягивал двупалую вилку - мол, разрешите представиться - “Днепр”, магнитофон, и моргал покрасневшим от употребления индикатором, а в отсутствие гитары, - хрипел свои далеко нереволюционные песни.
В отличие от “Днепра” Высоцкого в подсобке не оставляли – его приносили с собой, приглашая попеть и слушали и принимали как своего. И он, в свою очередь, не ломался, пел столько, сколько просили, и одобрял, что наливали. Он был свой. И аккорды и песни его были просты, понятны, повторимы. А главное - он хорошо понимал, когда петь “Наводчицу”, а когда “Дом хрустальный”, когда “Парус”, а когда “Утреннюю гимнастику”. Пришло время “Битлов” и “Роллингов”, и он не выпендривался, а уступил им место: и вместе с нами увлекся и слушал и переписывал, в том числе и на себя, на свои бобины, хотя мы потом жалели, и возвращались к нему, а он не обижался: “Да бог ты мой!” - и снова пел, до яри, до хрипоты.
С “Днепром” он подружился, любил присесть рядом, и подтягивал, глядя в окно. Казалось, создавалось такое впечатление, что играет-то он не на гитаре – на маге, а тот подыгрывает, лабает. Они заводились, наяривали и уставали оба, особенно в конце бобины. Высоцкий еще мог, а маг уже тянул и Володя помогал ему пальцем, стертым о струны.
Они пели всякое: и запретное, политическое, и неприличное, и просто босяцкое. А еще они пели про любовь, и непонятно было, кто из них отец, кто сын, а кто – дух святой.
К ним тянулись, и ласково протирали головку ваткою, смоченной спиртом, и навещали, как только возможно часто, то есть, конечно, не все, а те только, кто имел доступ, был товарищем или приближенным, кого пускали ...
Я такой доступ имел...
2
На Высоцкого я не попал. Он выступал в клубе трамвайщиков, на Лукьяновке, у черта на куличках, а мы жили на Воскресенке и мама меня не пустила:
- Все равно билета у тебя нет. Чего ехать в такую даль?
И я не поехал. И всю жизнь жалею – надо было рискнуть, настоять, попытаться.
Вы же помните, кто был для нас Высоцкий, а тем более для меня – семиклассника, подростка на переломе.
Высоцкий, - я словно вижу его, – огромный, как все магнитофоны страны, собранные в гору, звучащий с каждого этажа, каждого подъезда этой огромной горы, заполняя и дома и дворы, и подсобку физкабинета на самой вершине – приют школьной свободы. Подсобка, тоненькая щеколда, маг на самую тихую громкость - и слушать, разбирая слова, помогая бобине пальцем...
Кумир, если не сказать сильнее. Мечта, путь. И старший брат – у меня не было братьев – мечта о брате...
Билет на Семена Каца был отпечатан на «Эре».
- Он работает у нас в КБ, ты его знаешь, - объяснял отец, а мама, недовольная тем, что не может найти повод и меня не пустить - вот, пожалуйста, и билет есть, и концерт на Крещатике, рядом с метро – мама все повторяла:
- Что-то я его не помню…
- Черненький такой, инженером в КБ…
- Не помню что-то… - повторяла мама, как будто должна помнить все тридцать тысяч заводских.
Но я держал билет крепко. Пусть сослуживец, пусть мама не знает, все равно поеду, я должен увидеть, услышать его, пусть не Высоцкого, типа Высоцкого, но живьем.
Вы же понимаете, одно дело пленки, записи – а тут живьем. Люди верующие меня поймут – живьем совсем другое дело…
В актовый зал Укргазпрома я приехал заранее. Длинный, узкий, плоский, приспособленный разве что для собраний, когда и слушать нечего, и оттого в цене места на галерке, вернее на «камчатке». Я и сел сзади, стал ждать. В зал еще заносили стулья. Ряды теснились, и я понял, что видно будет плохо, и слышно тоже не очень, но пересаживаться ближе не стал, остался.
Народ между тем подходил, шумел. Дама в высоком шиньоне села как раз передо мной. Я заерзал, проклиная свою застенчивость. Но неожиданно для себя - угадал: буду видеть не только автора, а весь заполненный народом зал.
Сейчас я бы сказал – паству. Да, именно паству – потому как на те вечера, на тех бардов шли не ради удовольствия – ради откровения, ради правды и смысла жизни.
Семен Кац запел.
Я смотрел, как слушают и, стараясь разглядеть, вытягивают шеи. Я слушал, как замирает на финальной паузе зал и, выдохнув, спешит хлопать, с каждой песней все громче и громче.
Семен пел «Цунами» и я уже не следил за окружающими, забыл и о себе и о народе, я всматривался в самого автора, все более убеждаясь в полной невозможности считать его чьим-то, пусть даже папиным сослуживцем.
Он пел «Волнение» и, несмотря на тихую громкость и простые аккорды, зал ответил ему тем же, но умноженным, возведенным.
Великая сила искусства как гармошку растянула полсотни рядов актового зала, вознесла, поставила автора на вершине, а меня – у подножия. Сердце мое забилось, я отчетливо понял, что никогда не решусь на всю правду, не имею я всей смелости, и потому не смогу написать вот так - так честно, так волнующе.
Но зазвучал «Чучелёнок» – спасая, убеждая – да, пусть не сможешь, но стараться надо. Надо! - Я буду спасать, и пытаться, А иначе, зачем все, зачем Кац, зачем Высоцкий?!
И зависти не было. Была радость и величие общего пути – на вершину и к звездам.
Дороги домой я не помню. Помню, держал, не выпуская, билет в потном кулаке. Тогда, в пустом вагоне метро, и были, по-видимому, осознаны и приняты мною три постулата - три принципа его творчества:
Во-первых, масштаб творчества не важен. Это уж как бог даст. Все эти определения: значительный, выдающийся, гениальный – все это не имеет смысла. Важна принадлежность к цеху, общий путь.
Во-вторых, путь этот может быть только путем правды, и в этой разнообразной правде обязательно должна быть часть той, главной правды, о которой боишься и говорить, и думать. Только при этом условии можно рассчитывать на признание.
А в-третьих, действительно народным – может стать только то, что пишется для самых близких друзей, для себя.
Простые истины, но пришли они благодаря Семену. Думаю, что благодаря Семену Кацу и я пошел следом.
А домой я примчался совершенно безумный, не в состоянии ни есть, ни рассказывать. Поспешил к себе, улегся и бренчал на гитаре и, засыпая, слышал, как мама сказала, обращаясь к отцу:
- А-а! Я вспомнила его. Он работает в отделе Фельдмана - черненький такой. Никогда б не подумала, что он такой талантливый…
- И толковый инженер, - заметил отец.
3
Я долго не решался их выбросить. Все откладывал, пусть еще полежат. Хотя слушать давно уже не на чем. Техника изменилась. Времени прошло много.
А перед Новым годом - разбирал кладовку. И понес.
Мусоросборник у нас в самом конце двора, в закутке, за голубыми елями, красавицами.
И, нет, чтобы бросить в контейнер. Взял, дурак, положил рядом, как старые вещи, обувь, к примеру, одежду… Может, кто заберет?
А растащили дети.
Весь двор – я пробирался к нашему подъезду, втянув голову в плечи – весь двор был замотан – перемотан – закручен – завален обрывками и клубками. Досталось и елям. Они стояли съежившись, словно нищие цеховые елки, на которые в профкоме не выделили игрушек.
С собакой я вышел поздно. Двор казался пустым. И лишь на ветвях шелестели ленточки, поблескивая в лунном и оконном свете. Иные висели тихо, помахивали, или подрагивали, силясь что-то прошептать, но слов не было слышно, и музыка не звучала, не угадывалась.
Так, какие-то обрывки...