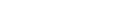Кошка
1
Ветеринара ждали все.
- Это доктор такой, - объясняла мама. - Доктор Айболит. Он лечит животных. Помнишь, я читала тебе? «Добрый доктор...»?
В этой сказке я никого не боялся, даже Бармалея, но маму слушал настороженно: а вдруг это ко мне? «Добрый доктор...» А если уколы? На всякий случай я пошел в спальню, где на коврике уже сидела Пупка, и в раскрытую дверь мы услышали, как доктор пришла, разделась, веничком обмела снег с валенок, потом мыла руки и спросила, наконец:
- Ну, покажите мне ваше сокровище.
Я снова подумал, а вдруг? Но бабушка вошла и, ловко схватив Пупку, уже несла ее показывать, и та тихонько мяукала, и попыталась вывернуться, но бабушка держала крепко.
- Какая же ты красавица! Сибирская? Помогите мне, – попросила тетя.
Я выглянул. Мама и бабушка держали кошку, растянув за передние и задние лапки так, что она напомнила мне замерзшего растопыренного кроля на базаре, только не голого, без меха и шкуры, не дохлого мясного кроля, а пока живого. И не кроля, а кошку, нашу. Она продолжала мяукать все так же, тихо и монотонно, понимая, что никто на нее не реагирует. – «Надо внимательно осмотреть!» - и доктор, надев очки, щупала ее и, разгладив шерстку, внимательно рассматривала бугорки и круглую рану на животе.
Пупка повернула голову ко мне, не переставая стонать. И мне не захотелось смотреть, я отошел от двери, забрался на стул у окна, и стал глядеть в окно.
За окном была зима, с морозом, тонкими узорами на стекле, застывшими воробьями на голом дереве. Машин было почему-то много и разных. От них шел пар и они, замерзая, лезли, выгадывая, подрезая друг друга. Люди спешили, сутулясь, наклоняя головы от ветра. Постовой - тоже в подвязанной ушанке - отчаянно свистел и крутил палочкой. Всем хотелось в тепло. Мне же было не холодно, даже жарко. Печка грела вовсю. Блестки на вате между рамами напоминали о скором празднике, до которого я точно выздоровею, я, можно сказать, уже здоров, гульки на шее давно сошли. Я потрогал и убедился. Но тут Пупка застонала сильнее, я прислушался, соскочил и подошел к двери.
- Не рожала... И сколько же ей сейчас? Четырнадцать?..
И мама сказала, что точно не знаем, может и больше, и пока у нас живет, не котилась...
У Пупки котят не было?! А Дженни? А Тарзан? Она садилась на подоконнике у раскрытого окна. Дженни, - рассказывала мама, – слева. Тарзан справа. Садились, в точности повторяя маму – передние лапки под себя, улыбочки у всех предовольные, глазки сожмурены. – Боже, какие красивые, пушистые! Цвай-пара! – Все люди оборачивались! - Мама с бабушкой вспоминали, и я видел это окно с расстояния в сорок лет так, словно все эти годы прожил здесь, на углу Павловской и Петровской, будто дом этот, снесенный уже сорок лет без малого, - будто стоит он, старый, деревянный, с облущенными белыми окнами на фоне почерневших от времени досок...
Стемнело. На перекрестке включили светофор. Машины обиженно гудели, то появляясь под фонарями, то исчезая. Из окна пошел густой синий свет, гуще, чем от лампы, которой мне выгревали уши, но свет был холодный – я потрогал стекло – и отражение тоже потрогало - наши пальцы соединились. – Холодное стекло, - сказали пальцы мне; и ему, заоконному, наверно, тоже...
- ...не котилась. – подтвердила бабушка. – Она вообще из дому не выходит, боится.
И мама закивала, мол, да, да, мы ни разу не топили... И посмотрела на бабушку.
Что-то не складывалось. Память ли давала сбои, или такова природа уходящего – терять по мере удаления связи, на которых держится мир, живые связи, поскольку прошлое все еще живо, но уже не так, не вполне, отчасти, о чем и думаешь с замиранием сердца.
Ведро выносил дедушка. Я однажды подошел, а тряпка – толстая, половая – шевелится. И он прижал тряпку шваброй, и держит так, чтобы она погрузилась и сильно намокла.
- Вынеси! Вынеси, ради бога! – бросила на ходу бабушка. И дедушка, накинув пальто, в марте еще холодно, понес – я подглядел – и вылил в уборную, на том конце двора.
Кошка ходит вокруг, озираясь то на пустое ведро, то на бабушку. – Да убери ты его с прохода! – и дедушка снова послушался, выставив ведро с тряпкой и шваброй в коридор.
Темно. Только мир за окном, бегущий и проезжающий, с огоньками и полосами света, с гудками и звоном трамваев. Суетящийся мир - и мое одинокое отражение в первом и во втором стекле, почти неподвижное, застывшее в этом растопыренном заоконном мире. Кошусь, оглядываюсь - никого...
- Бабушка! А кто был до Пупки?
- До Пупки?.. Аза была, ее дедушка с работы принес. Он тогда работал в Министерстве, война только кончилась... Представляете, запрыгнула к нему в кабинет, в окно, села на подоконник и сидит, мурлычет!.. Темно-шоколадного цвета. А глаза - золотые... Ой, а котята ж у нее какие! Загляденье! Сядут на окне...
Да, наше окно - особое. Во-первых, расстояние между рамами - во! Курица помещается! А во-вторых, рамы кривые. Внешние на улицу выпирают, то есть створки не до конца закрывается, а изнутри - тоже не до конца заходят.
- Руки бы поотбивать тому, кто так красил! - каждый раз ругается бабушка. А мне нравится - сразу видно два отражения, два меня - в дальнем стекле и в ближнем. А если кошка рядом сидит - сразу три кошки - там, там и тут. И бабушек столько же...
А в-третьих, оно кошек притягивает. Днем, допустим, понятно - за птичками, за мухами следить. А вечером, когда темно, и редко какой огонек всплывет - только светофор и мигает - вспрыгнет, сидит, смотрит... И бабушка - тоже...
Вечером всегда трудно понять, что за окном – снег или дождь. Тем более, если снег мокрый, и тает, ни то ни се. По вечерам все кошки серы. Вот и Диво, третью нашу, диковатую, издали можно было принять за Пупку, а Юнька, вообще была в темной комнате точь-в-точь Пупка – так же зеленовато-желто горели глаза.
- Ну, что ты путаешь! - поправляет мама. - У Юнички нашей голубые глазки были, то есть светло-светлые, цвета «песцовый электрик».
- А в темноте так же горели. Как светофор!
И так же ушла куда-то, когда время пришло, неизвестно куда.
- А кто был до Азы? - спросил я однажды..
- До Азы? А кто был до Азы? - бабушка забеспокоилась. - Война была, эвакуация... И до войны мы переезжали.
- А я помню, - включается дедушка, - у твоей житомирской бабуни был кот. Здоровый такой, рыжий. В Житомире. Неужели не помнишь?!
- В Житомире... Убей меня бог, не помню. Не любила Маруся котов. Может кошка? - бабушка закатывает глаза к потолку, - Нет, не помню, все путается. Но ты прав, кто-то был...
А вот кто? Как вспомнить? Мы сидим у окна, и бабушка старается, вглядываясь в полосы и порывы дождя, пытается вспомнить. Как будто там, в отражениях, накопилось прошлое.
- Э-э, людей, родных не помнишь. А вы хотите кошку... Себя не помнишь! - в сердцах машет бабушка и порывается встать, но дедушка мягко усаживает ее обратно.
- А хочешь увидеть себя молодую? Вон там, в окне. Хочешь? - и подмаргивает мне. - Подожди, постой! Очень же просто!
Но бабушка уже встает - она не любит шуток насчет возраста - и уходит на кухню.
Мы остаемся вдвоем, и дедушка, указывая на мои отражения, замечает:
- Знаешь ли ты, что они разные?
- Как - разные?! Это же я!
- А как думаешь, ты - маленький, и ты - взрослый - это разные люди?
- Ну-у... Разные.
- Вот! А второе стекло дальше, чем первое?
- Да... Дальше... - я не понимал, к чему он клонит.
- Значит, свет летит дольше до второго стекла? И дольше возвращается?
Я киваю.
- Отсюда следует, что ты видишь себя в разном возрасте: этот - ближний - постарше, а тот - моложе. Разница, понятно, мизерная, в миллионные доли секунды. Но важен сам факт - разные! Теория относительности! Вот! - сообщил он победно. А я не понимал. - Ну, что тут непонятного?! - Дед раздраженно шевелил усами. - Давай второе стекло отодвинем.... ну, скажем, к Альфе Центавра, ближайшей к нам звезде. Свет летит туда четыре года и столько же обратно. Тебе - девять, значит, ты увидишь себя - годовалым. Здесь - такой как есть, а там - грудной!... Ну-у?! Понял?! И оба - дед и кошка - посмотрели на меня с недоумением.
А я не понимал, не хотел понимать. Наоборот, тот - дальний, был старше, потому что лицо его темнее, печальнее ближнего. - Ты же сам говорил - «старость - не радость!»? Значит, кто моложе?
И дедушка, кряхтя, подсаживался, снимал и надевал очки - мы всматривались: и в наши двойные отражения, и в черное, глубокое, как омут, небо... И уже оба ничего не понимали.
2
Если, правда, что время - это вода - вода с отражениями, с образами - тогда снег - это детское время. Идет невесомо, радостно, будто детство вернулось. Потому-то наверное и пытаются его сохранить, а как? Как курицу или пельмени, между рамами - не в холодильник же класть, - а если потечет? Вот и кладут вату с блестками, чтобы как будто бы, чтобы напоминала. Елка уже давно на помойке, а вата лежит. У нас лежала до апреля...
На третьем этаже новой квартиры, между окнами все еще клали вату. Она блестела, как снег под звездами и даже при потушенном в комнате свете все равно блестела. И отражение в окне двоилось. Не так, как на Петровской, но все-таки.
Диво, в отличие от других кошек, вспрыгивала на подоконник с разгона. И, замерев в какой-то необъяснимой «морской фигуре» секунды на три, - отмирала и, прикрыв одну лапку другой, садилась рядышком, неотрывно глядя в темноту. Временами глаза ее бегали, словно днем за птичками. Она видела что-то, чего ни я, ни дедушка и близко разглядеть не могли, но головой она не крутила, усы не топорщила и в отличие от нас, в первом стекле отражалась точно такой же, как и во втором.
Диво и возникла удивительным образом, может быть, забралась в форточку, но, - недоумевала мама, - как же она забралась так высоко?
- Она могла забежать следом, ты просто не заметила, - уверяла бабушка.
- Ну, что же я - уже?! - оправдывалась мама.
А бабушка разводила руками. Ничего не поделаешь. Мы хоть и зарекались после Пупки никого не заводить, но выгнать кошку из дому, и такую чистенькую, хорошую...
Бабушка и мама помнили, как бабушкина мама, то есть мамина бабушка просила любить Пупку, не обижать, кормить ее хорошо... «Злата знала, что говорит. Злата имела в виду больше, чем надо сказать. – замечал дедушка, приподнимая брови. То есть Пупку любили у нас дополнительно, не только как обычное животное, но еще и из уважения к прабабушке Злате, - она же просила. И Юньку полюбили все, и не меньше, чем Пупку. А бабушка даже и больше. Теперь уже ей самой приходилось принимать роды. Каждый раз тяжелые, тяжелее прежних. И самой нести ведро с тряпкой на мусорник, (уборной во дворе уже не было – вот вам и изолированная!) нести ночью, втайне от дворнички, которая ругалась, а дедушка из своей комнаты жаловался, потому как стакан воды ждать ему приходилось в очередь. «Сначала надо накормить кошку!» И оправдывала себя, чем неизвестно, может быть Златой, а вслух заявляла, что «животное сказать не может. Это ты можешь, а животное нет.» И дедушка, насупившись здоровой половиной лица, второй половиной не возражал, соглашался.
- Что ж... Конечно, нужна операция. Эта рана сама не затянется. Не залижешь. Но ... сколько вы говорите ей? Четырнадцать?..
Однажды она так взлетела на перила балкона, что - боже ж мой! - не удержалась и полетела вниз, разбилась, сломала в двух местах челюсть и с зашитым ртом месяц недвижно лежала на коврике. Бабушка кормила ее из пипетки, и меняла пеленку, и каждый день ожидала и сетовала:
- Вот! Еще одного лежачего только мне и не хватало! Ой, нет, не с нашим счастьем. Не с нашим счастьем....
Когда вдруг кошечка поднялась, встала на ноги и, качаясь, пошла пить воду на кухню...
- Скорей! Скорей! - закричала бабушка. - Идите сюда!
А кошка пила и пила половиной незашитого разорванного рта.
Даже когда кошка смотрит на вас с благодарностью, глаза ее теплеть не умеют, ей приходится мурлыкать, тереться, узить и прищуривать глазки, ластиться и выгибать спинку. Даже у синеглазой кошечки светятся они не так, как майское или июньское небо, ласковое и теплое в Киеве, и ночью – не светятся, а горят, отражая неизвестно откуда берущийся свет, может быть – собирая его со всех звезд, но тоже холодный, блёсткий.
У Юньки в глазах собиралась синева, та, небесная, как бывает в самом конце февраля или начале марта, невыгоревшая сельская голубень, о которой еще в октябре вспомнит ненадолго осеннее небо, припомнит и - всё: дожди, дожди, серые, словно намокшие под тряпкой в ведре...
Юнька и была сельская. «Вы никогда не поверите - говорила бабушка, - из какой она семьи! Такая нежная, деликатная, лишний раз не мяукнет, что вы, только ротик открывает и смотрит.
Пришла к нам от соседей по даче. А там... семейка: пьянь, гвалт, крик, что ни день - мордобой. Сейчас такое сплошь и рядом: сначала отец - пьет, избивал жену, детей, а потом детки выросли, алкаши, хроники цвай-пара, и отца-паралитика, и бабу Ганю свели в могилу, а потом и Васька, старший, Сирожу зарезал, белка напала и убил братика в горячке, сел надолго... Сколько она, бедная, пережила. Как было не взять, когда дача кончилась, - пришла, голубоглазая, и только ротик открывает, просит. Не бросать же ее на всю зиму одну...»
Дедушка лежал в маленькой комнате. Головой к двери. Ногами к окну. Даже когда его поднимали, подкладывая подушки, ни двора, ни веток самых высоких деревьев видно не было – этаж был пятый, высокий - но по вечерам загорались окна в доме напротив, и там жили, он уже знал – кто в каком, - а над окнами, над крышей дома лежало небо, лежало так же тяжело и неподвижно. Небо темнело, чужие окна, как и свое отражение, деда не радовали, от окна тянуло холодом и приходилось укутывать и повязывать ему на шею что-нибудь шерстяное...
Я прибегал со школы и садился на минутку рядом на табуретку, что-то говорил, рассказывал, держал деда за руку и, аккуратно положив руку, убегал, целуя на прощание в шершавую щеку. Дед молчал. А Юнька оглядывалась, провожая меня, приоткрывая ротик. Она мяукала, словно глухонемая, беззвучно, только приоткрывая рот, в точности как рыбки в аквариуме. А бабушка все понимала: когда кушать, когда пить, когда пустить на балкон в ящик с песком. И, конечно, дедушке тоже обязательно что-то несет перекусить, или стакан воды, или «утку».
- У меня такое впечатление, - вздыхает бабушка, - что мы уже можем идти в переводчики. Да, Юничка?
И кошка, повернув голову, долго смотрит на бабушку, прежде чем вернуться к умыванию.
- ... и вот еще что. Операция результата может и не дать. Как правило, воспаляется следующая железа, и снова - на стол. Надо ли ее мучить?
3
Окна еще не мыли, и вату не убрали, настоящая весна еще не пришла. Дождь, холодный и монотонный, шел мелко, постегивая по подоконнику. Кто-то похожий на меня, заглядывал оттуда в окно, рассматривая меня пристально и внимательно, то широко открывая, то щурясь желтым светофорным оком. И чем пристальнее и монотоннее мигало окно, тем и я – уже не ребенок – вглядывался в него, в темноватый двоящийся лик в каплях и подтеках.
Я узнавал себя с трудом. Так поначалу не узнают собственный голос, записанный на магнитофоне. Платок, обмотанный вокруг больного горла превращался в клетчатое модное кашне, и глаза смотрели по-взрослому.
Диво, та действительно не рожала. Била, гнала всех котов, даже Марсика, огромного кривоухого котяру. А сама была маленькая, точно фарфоровая. Дикая была, ни ластится, ни тереться. Заберется на шкаф и смотрит оттуда. Зато игрунья какая! Тимка уже устанет, набегается по комнате, а она - за ним, за ноги хватает. Или охотиться. Спрячется за дверью - и как прыгнет! Гости пугались. А Тимке только того и надо. Хохочет. И Дивочка будто улыбается. Очень ее любил. Вот и имя придумал: Диво. Чудное имя - чудное, удивительное. А был случай - жуткий. Заходит он в комнату, годика три всего и было, - и ножницы в руках:
- Я, - говорит, - Диве уфы отрезал.
Уши?! Я онемел, - ножницы - кровь прыгнула, ударила в виски, будто я, я отрезал, нет, хуже, чем я...
А после выяснилось, ни уши, а усы. Шепелявил сынок мой... За усы, помнится, получил Тимофей «на орехи», ох, получил!..
Однажды я возвращался вечером по Петровской и на нашем углу, на том месте, где когда-то стоял наш домик, обнаружил девятиэтажку с высоким бельэтажем. На фоне желтой люстры в угловом окне я разглядел знакомую троицу: старушку, мальчика и кошку, сидящую на подоконнике.
Старое дерево прикрыло меня. Я ждал. Чего? Что я надеялся увидеть?.. Однако, не уходил... Но вот сначала бабушку, потом и внука позвали, и кошка осталась одна. - Пупка! - сомнений не было. Я пошел к окну - и она меня увидела, глаза сверкнули.
- Пупка! - позвал я негромко. И она ударила лапкой по стеклу, приподнялась... и спрыгнула в комнату.
...Когда бабушка, наконец, соглашалась и начинала рассказывать, мы с Пупкой замирали и слушали, не перебивая, окунаясь в те же самые истории по многу раз, но все равно, даже зная в подробностях, что будет дальше, даже зная конец - сидели смирно и слушали увлеченно. Я видел, что и ей каждый раз тоже интересно. «Каждый раз припоминается что-то новенькое - мелочь, может быть, но живая, пахучая. Вот она! Такое впечатление, что слова перестают быть только словами. Я прямо вижу, как они возвращаются к себе домой, в те же детские и кошачьи ушки и головки, в то время, когда и я была такой же, как дитятко мое дорогое...» Так, наверное, а может, и не так, может быть, совсем бабушка об этом не задумывалась. А сказывала по привычке, по призванию... И темное, с редкими огоньками окно тому не мешало, не отвлекало. Напротив, там именно и густели знакомые образы, там и поднимались они из глубин в окружении наших двоящихся заоконных портретов...
4
Внуки вырастают, кошки уходят. Выходит, Пупка жива? А что тут странного? Иные кошки и по сорок лет живут... Или я снова все перепутал... Вот Диво, что ты говоришь? А? Когда? До Юньки? Не может быть этого. Если мама и бабушка вызывали к ней доктора, а я еще и в школу не ходил. Не живут кошки столько.
- ... потому что Диво была не кошка, а такой кот, - вставляет внучка, - потому и не рожала. Это называется кот-трансвистит. Сейчас такое сплошь и рядом. - сообщает она со знанием дела.
Клоп, а туда же: «Рожала, не рожала...»
Юнька всегда пузатая ходила. Не успеет моя потопить, а внучка уже пальцем показывает - «толстая, деда, Юнька опять толстая!»
То есть, не Юнька, а Тави - всё опять напуталось. - Кто? А? Что ты там шепчешь, слышь? - ничего не слышит старая, кричу-кричу на кухню, так помирать буду, никто и...
- Да сделайте же тише, наконец! Уперлись в этого Шустера, сидят цвай-пара, та уже спит, а кошка смотрит. Что там смотреть - мышиная возня...
В окна теперь смотреть неинтересно. Отражение не двоиться - стеклопакет, расстояние между стеклами малое. И вату уже не кладут... А в доме напротив - бардак. Летом окна растопырят и ходят голые. Рядом с ними старик живет с кошкой. Ночи не спит. А те всё курят и курят на балконе - ни самому выйти, ни кошку...
Обещали потепление, не верю я их прогнозам, а тучи легли - тяжелые, набухшие, точно половая тряпка в ведре. Легли - и давят, душат. А в доме - каждый год одно и то же - батареи не включают, не топят, холод собачий. А обогреватель мне сушит. Приходиться вставать по ночам: пить воду, протирать пол, проветривать. А там уже закрутило-завеяло. Снег, метель. Сыплет на подоконник. И сквозняки. Кошка сразу уходит. Глаза ее синие-синие. У кошек таких не бывает, а вот у Тави, у Тавочки нашей - в честь которой внучка ее и назвала, у героини гриновской именно такие и были. Густые, как небо вечернее. Темные. И только луна желтым зрачком.
- ... гуманнее, поверьте, усыпить. Впрочем, операция может дать результат. Как хотите. Ну, вы еще подумайте. Надумаете - приходите. - говорит врач.
Клиника у них - я вам скажу... У людей такого нет. Шикарная. Все белое, белоснежное: стены, пол, компьютеры. Охрана с проводом в ухе. Операции, конечно, за доллары.
И кошки с хозяйками сидят. А в глазах - страх. Этого нельзя не бояться.
...Пупка. Юнька. Диво. Тави... Вот они - за окном. Четыре тени. Четыре пятна. То расходятся, то сливаются. Глаза только и видать - двоятся, горят. Горят...
5
Правнучке подарили котенка...