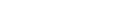Ты читал?
Дочитана хорошая книга. Перевернута последняя страница, а там уже кроме примечаний и оглавления ничего и нет.
И снова прочтешь последний абзац и затоскуешь. И сидишь молча, покамест в комнате и в сердце затихают последние строки.
А закроешь, и не хочется выпускать из рук, и носишься с нею по комнате и потом уже укладываешь на полку, в нишу между восьмым и десятым томом, чтобы сиять настоящим неметаллическим золотом...
- Ты читал "Голову профессора Доуэля"? - спросил Сашка и обозвал меня "козлом".- Это самая лучшая в мире книга! Сегодня мне приносят вторую часть. Смотри! - протянул он, - видишь?
С обложки того, что когда-то называлось книгой, глядела косматая старческая голова, отрезанная от туловища, установленная на специальном столике с трубочками, ведущими за пределы обложки.
Я сглотнул. И, видать, лицо у меня было такое, что Сахер забежал за спинку скамейки и, присев за нее по шею, надулся и захрипел, выдавливая из неподвижного рта:
- Я-а-а голова-а профессора Доооуэля! Доуэля! – извиваясь, как еще не обезглавленный дракон, поворачивал и закидывал голову, сверкая белками. А для пущего устрашения стал еще и высовывать пальцы - скрючиваемые - но спохватился.
- Александр Беляев. "Голова профессора Доуэля", - помахивая половиной книжки, вышел он из-за скамейки. Жалко, мало картинок. Эта - самая классная, - произнес, причмокивая, и мы принялись разглядывать конструктивные особенности приспособлений.
Срезанным концом голова лежала на стекле, и в этом месте ее опоясывал обруч, фиксируя, чтобы она, не дай бог, не упала и не покатилась, как мячик, по комнате. Снизу, я уже говорил, присоединялись цветные трубочки, по которым подавалась питательная жидкость, а вот по этой - толстой гофрированной - шел в горло - я снова сглотнул - сжатый воздух, от которого он может говорить. Сашка повернул краник, послышалось шипение и голова захрипела, захекала, жалуясь, как все пожилые люди, на то и на се, и на Беляева, конечно, тоже.
Так я снова услышал фамилию писателя, с которым прожил года три, не менее, да и сейчас он изредка заходит ко мне, улыбаясь, в обнимку с моргающей головой этого профессора и Ихтиандром в облегающем майклоджексоновском костюме...
Мне было одиннадцать, когда Александр Романыч зашел по-соседски и, прихлебывая чаек с кизиловым вареньем, поведал о своем замечательном замысле создать грандиозное произведение, в котором как бы объединить всех самых известных героев приключенческих и фантастических книг.
- Я такое придумал! - сообщил он, подмигивая. - Но это - еще не все! Книга - особая! Каждая страница, то есть лист - законченная плиточка сюжета. Причем, - поражал он глазами и паузами, - книга сделана как скоросшиватель - страницы вынимаются. И самое главное - через одну - чистые листы!
Можно дописывать, дорисовывать, комбинировать, вводить новых героев...
- Эх, - жаловался писатель, - мне бы только начать! Сесть вот так вот за стол, взять в руки ручку (он воспользовался чайной ложкой) - и писать, писать день и ночь, день и ночь... Не дают! Они не дают мне работать! Ихтик - вообще потерял голову - страдает, а ветеран - стыдит... Хоть на недельку! - взмолился писатель - А?
Мама сначала и слушать не хотела, “этот рыбный сыростный запах!”, но в конце концов уговорили бабушку, - (...поскольку нужна идеальная чистота, как у вас, Софья Михайловна…) - Ихтиандра поселили в ванной, а профессора - на шкафу, между деревянным карпатским орлом и фарфоровой девушкой - конькобежкой.
Надо сказать, мороки с ними было немного. Насчет профессора Александр Романыч сам ездил на Красный хутор; потом нас прикрепили на Анжелы Девис, рядом со школой. В субботу после уроков я заходил в зарядку, заправлял баллончики сжатым воздухом и забегал на молочную кухню, где меня уже знали, и старшая сестра, улыбаясь, протягивала бутыль, наполненную липкой розоватой жидкостью. А в ванне разводили морскую соль на неделю и все!
Профессор оказался нестрашным. С ним по вечерам играли в карты, смотрели телевизор и выносили покурить с папой и дедушкой на кухню. Они там шумели, вспоминали войну, ругались, накуривали, засиживались допоздна. А молчаливого Тишу все полюбили, мама жалела, а бабушка обо всех заботилась. Она лично меняла кровь и воду и брала Тишеньке только свежую рыбу, хотя сырую он не ел, а ел как все, только мало.
Конечно, с ним было в тыщу раз интересней.
Он еще школьником много плавал, в основном в теплых, южных
морях и красочно умел описывать чудесную подводную жизнь.
- Вот, - глядит он сквозь кафельную стенку, - идешь вдоль рифа. Справа - аквариум, кораллы, разноцветная живность, красота. Раннее утро, солнце еще не взошло и глубина особенно насыщенна. Идешь, еле помахивая, и косишься туда, в глубину и ждешь. Ждешь, когда она - голубая и синяя до темноты – начнет оформляться и сереть длиннообразным телом и снизу - видишь все яснее и яснее - на тебя, не сворачивая, выходит она...
- Кто? - не выдерживал я.
- Килька в томатном соусе! Кто?! Сам должен понимать - кто. Акула. Небольшая, метра три, не боле... Но поднимается прямо на тебя. Снизу, как зенитная ракета... Что делать? А-а...
Я садился у ванны на скамеечку и слушал, и мы погружались в пучину его воспоминаний, в далекие и холодные глубины, и он учил меня не дрейфить, не пугаться, а уходить туда на рассвете:
- Ранним утром, когда солнце еще не взошло, они подходят и кружат у самого берега, и если повезет увидеть королевскую манту и пойти под ее крылами, - старик, не спеши, наглядись, насладись ее сиятельством, чтобы после, очнувшись, выскочить наверх и захлебнуться в кипящем от дельфиньего экстаза кваче или штандере и опять пойти вниз, в коммунальные рифовые пещеры, где живет знакомая мурена, Мурочка, и, почесывая под шейкой, мучить ее как ленивую кошку, сальто-моталить и носить на шее чернобуркой.
О пиратских сокровищах Тиша рассказывал скупо, - не рекомендовали. Зато любил пленять затопленными, опустившимися на дно древними городами. И мы кружили над улицами и площадями, мимо башен и дворцов, где еще сохранились мозаики и статуи, мы касались тайн погибших цивилизаций и возвращались в ванную с широко открытыми безумными глазами.
А еще мы мечтали о том, что придет весна, настанет лето, каникулы, и можно будет выпустить его в Днепр, который впадает в Черное море, оттуда по Босфору и Дарданеллам доплыть до Средиземного, а там – мимо Турции и Ливана, сквозь Суэц – в Красное, вечно теплое бирюзовое море, и там жить.
Можно было бы поставить домик на сваях, на воде и сделать такую двуспальную кровать, чтобы половина ее, как ванна, допустим, так – сетка или из плексигласа, а половина кровати – нормальная, с матрацем, для Гуттиеры, то есть, короче, - при желании можно все сделать. Но уже тогда у меня складывалось, что она никуда к нему не поедет, а останется жить со своим журналистом. И потому я не грузил его домом на сваях, а больше напирал на проработку маршрута, всякие трудности и технические приспособы.
Первая проблема – а вода в Днепре, как известно, – пресная, - заключалась в том, что морские рыбы в пресной воде не живут. В ванну-то мы добавляли морскую соль – 330 граммов на ведро воды. А как поступить с Днепром? Тут следовало хорошенько подумать, взвесить. И спор разгорелся не на шутку.
Папа предложил везти Ихтиандра в ванне, погрузив на пароход, и я стал расспрашивать, нет ли у кого лишней ванны, потому что нашу мама не давала.
Деда стоял за буксировку! В целлофановом мешке, за теплоходом.
А мама сказала вообще никуда не уезжать, а сделать такой красивый стеклянный обруч на шею, на жабры, и периодически менять в нем воду, фильтровать, отстаивать...
Но ванна расплескивается, а буксир, не дай бог, на винт намотает. А мамина идея, это что же - привязать его к кухне, к водопроводу?
Мне пришли на память старики в военном госпитале с трубками и баночками для выведения мочи, - я замахал руками и отверг идею обруча начисто.
И тогда бабуля вынесла ему две шейные подушечки, наподобие тех, что подкладывают скрипачи, чтобы не намулило. Скроенные из добротной холщовой ткани, они располагались в районе ушей и смыкались завязочками на затылке. Гениальность и я бы даже сказал - практичность бабушкиного изобретения состояла в том, что соль (они наполнялись солью!), растворялась равномерно с внешней стороны подушечек и омывала расположенные за ними жабры. Быстрее поплыл - больше соли уходит, медленнее, вообще стал - вода солонеет от диффузии, захотел пополнить солевой баланс - "молнию" - раз! - подушечки были на "молниях" - засыпал - жжик! - и вперед!
Чтоб их испытать в ванне сделали течение с помощью душа, а когда этого оказалось мало - включили пылесос наоборот, на
побелку, воду стало гнать хорошо и, как говориться, процесс пошел!
Мы так увлеклись, что сперва не услышали, и только после обратили внимание на раздраженные хрипы со шкафа:
- Компрессссс! …лючите компресссс! - шипел профессор, потому что хотел громче, чтоб слышали, и после твердого обещания не ругаться при детях, папа повернул рычажок:
- Недомыслие! Подушечки! Эксперимент! Крэтины! – моментально заорал он, но осекся - Эксперимент! Где? В ванне? Не позволю! Ихтиандр – такое же достояние общества, как и я! Не дам! Угробить? Не дам!
Спорить с профессором было трудно. Профессор! А тем более - спор-то ничего не решал. Необходимы были натурные эксперименты, максимально приближенные к полетным.
И, усевшись поудобнее, - благо была суббота, - мы взялись за дело, то есть за сочинение того, как весной, а вернее в начале лета, когда вода уже будет хорошая, приступим к отработке различных вариантов рейса, модернизированных моделей подушечек, мешков, буксиров и пр.
Этот день - 19 мая 196… года - мне запомнится навсегда, на всю жизнь, когда мы, в окружении детворы и взрослых выехали колонной со двора и порулили в сторону бульвара Жюльверна.
Что творилось вокруг! День пионерии, праздник песни и строя, - и мы: впереди на инвалидке - профессор, опутанный трубками, чуть подале - помост на роликах с ванной и живым Ихтиандром, сопровождающие службы, Сашка с открытым ртом, марши из репродукторов, детские коляски с мамами, учителя...
На озере,- не на Ближнем, а на Огурце – было торжественное отплытие. Говорились речи. Кинохроника снимала старт. Ихтиандру одели водные лыжи и трижды провезли по озеру за моторкой с красным вымпелом над головой. Жаль, на эксперименты времени не хватило. Но это было потом, в рабочем порядке. И к 196… году Ихтиандр обязательно бы уехал, то есть, уплыл, если бы не арабо-израильский конфликт, проблемы с допуском, с ОВИРом...
Вскоре мы переехали на другую квартиру. А они, вместе с Беляевым - в Москву. Профессора, кажется, вылечили. Об Ихтиандре же мне ничего неизвестно. Впрочем, нет. Через год он снялся в одноименном фильме. И это был уже не тот
худющий подросток, а возмужавший юноша, героический красавец, в которого невозможно, нельзя не влюбиться.
- Оуу - оуу?! - трубил Ихтиандр и появлялся из зеленых глубин, выплывая на середину экрана. Огромные миндалевидные глаза его оглядывали меня и по тонкому облегающему скафандру пробегала судорога. Еще мгновенье - и он обращался в водяную молнию и несся на помощь, чтобы спасти, блеснуть, вильнуть и исчезнуть.
Некоторым он казался суперменом. А я знал, что, несмотря на свой героизм и фотогеничность - Тиша был скромным и застенчивым человеком, любил животных, рыб и еще Гутиеру - венец природы.
Когда эти сволочи погубили его - (…Они же погубили тебя! - вы помните, как закричал тогда его папа - и еле-еле успели донести до воды…) - это прощание никак нельзя было выдержать, бабушка и мама вытирали слезы, я хлюпил и все хором вздыхали при появлении надписи "Конец фильма".
Телевизор выключали, и на потухшем экране некоторое время светилась точечка, как будто кончилась хорошая книга, перевернута последняя страница, и в комнате и в сердце все еще теплится свет и слышится звук остывающих катодных ламп. Телевизор убирали китайским покрывалом, чтобы от солнечных бликов не выгорала трубка, и бабушка, протерев заодно пыль, ставила поверх покрывала фаянсовую с гордым видом собачку и фарфорового юношу Пушкина в задумчивой рабочей позе с пером и книгой.