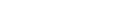Праздничный концерт на Беличанской
1
День Победы праздновали два дня. Восьмого вечером показывали “Голубой огонек”, а девятого, тоже вечером, - Праздничный концерт из Кремлевского дворца съездов.
Как и “Голубой огонек”, Праздничный концерт состоял из двух отделений, но если в “огоньке” всякая ерундовина шла вперемешку с хорошими номерами, то в концерте, в первом отделении вообще смотреть было нечего. Патетические оратории “Ленин всегда живой” сменяли лирико-хореографические композиции “На привале” трижды Краснознаменного ансамбля песни и пляски. А кончалось это все вальсом “Школьные годы чудесные”, противным до предела, где такие прямо мальчики-суворовцы строем танцевали с девочками и кивали “честь имею”, и становились на одно колено, а те на цыпочках кружились, а в конце выбегали вообще малые и тоже так само, и кивали, и на колено...
Мама и бабушка умилялись до слез, я нудился, а у Яши шла “кислая водичка”, и он отправлялся на кухню пить соду.
Поэтому первое отделение смотрели, сидя за столом, через бутылки, а вот на второе отделение Яша пересаживался в кресло, а я - на диван, и уже ждали Шульженко или Трошина и, конечно, Муслима Магомаева и Эдиту Пьеху и кричали женщинам, которые мыли посуду на кухне:
- Софа! Шульженко! - и бабушка, вытирая руки, слушала, стоя в дверях.
А когда, наконец-то, объявляли Райкина (Аркадий! – пауза - Райкин!!), то кричали:
- Райкин! Райкин! Скорее!!! - и женщины бежали стремглав, и папа не докуривал на лестничной площадке, и все садились, и смеялись до слез, до колик, потому что Райкин - есть Райкин!
2
Праздничный концерт, который мы придумали ко Дню Победы, пригласили взрослых, они выходили с кухонными табуретками и маленькими, чтобы мыть ноги скамеечками, а Рудичка тащила венский стул с такими гнутыми ножками, чтобы не было, наверное, видно, какая она сама кривоногая.
Настоящий концерт, к которому мы готовились загодя, сцену соорудили из овощных ящиков, на траве, где вешали белье, натянули занавес между столбом и каштаном.
Этот долгожданный концерт, наконец, подошел, и майское солнце, весеннее и летнее одновременно, сияло вовсю.
Конферансье раздвинул занавес - это был я! - и произнес без бумажки:
- А сейчас перед вами выступит Игорь Ордамонов! “Амурские волны”!
Собственно говоря, на Жирного и была главная надежда. Он мог на своем аккордеоне играть практически без конца. И “Амурские волны”, и “Прощание славянки”, а “Амурские волны” вообще без перерыва! И потому он играл соло, то есть сам, и аккомпанировал хору и танцам, и фокусам, которые показывал приглашенный из общежития Коська, и даже перед чтением стихов играл “Вихри враждебные”, но стихи уже Пенцер читал сам, в тишине, а после него концерт сразу закончился, но лучше – все по порядку.
“Амурские волны” Артамон сыграл классно. Тетя Фира, его мама, сидевшая в первом ряду, оборачивалась к соседям с выражением лица, как будто разводя руками: “Что делать? Гениальные дети!”, а ей в ответ кивали дожидающиеся своей очереди другие мамы, бабушки и тети, будто хотели сказать “Да-а!” или “Нивроко!”, но только уклоняли голову набок и вежливо кивали.
Собственно говоря, вы знаете, как говорят “Нивроко!”
Некоторые еще лизнут три раза ладонь и трижды потрут это
место другой ладонью. Вот так. Ну, знаете.
А вот говорение “Да-а!” или “Нет! Вы подумайте!” требует специального разъяснения. Это достигалось особым коверканием лица, то есть брови подымались вверх до упора, глаза наполнялись жидкостью, а углы рта шли вниз и вниз, собирая в самых-самисиньких уголках такое количество мудрости, что хватило бы на добрую дюжину региональных конфликтов. Или как сказал поэт: “Этот подъем бровей завершался фирменной кулинарной улыбкой “Цимес!”, напоминающей русское коромысло”.
3
Короче, концерт шел классно. Под бурные аплодисменты пошел хоровод. Пацаны переоделись в женские платья, повязали платочки и поплыли, как “Березка”, и кружились, а Аня, единственная у нас девочка, надела фуражку и с каждым из нас танцевала, а потом ми ходили змеей и долго кланялись утирающей слезы публике.
Люди раскраснелись и подпевали “Я люблю тебя жизнь!” и “Катюшу”, которую пела Аня, и хлопали уже вместе, в такт - и в ладоши, и по увесистым бедрам, и по различным холмам живота.
Старик Болсуновский одобрительно жевал и кивал, болонкина квартирантка ритмично покачивала коляску, и даже недоступный Давид, муж Лошади, вышел на балкон и курил, тактично постукивая пальцами по перилам.
4
Пенцер должен был читать “Во глубине сибирских руд” и “Песню о буревестнике” Максима Горького.
Выбор стихотворений определялся тем, что, во-первых, он их хорошо знал, а во-вторых, они были созвучны его мировоззрению, как политика.
Сашка тогда так увлекся политикой, - Пойду, - говорил он, куплю газету в киоске, почитаю, - что некоторые, завидя его во дворе с газетой, перемигивались. Намекая на его папашу, который, как известно, был “слегка того”. Но стоило Сашке дать комментарий, стоило ему высмеять какого-нибудь, путавшего Конго (Киншасу) и Конго (Браззавиль), стоило ему назвать номер последней резолюции ООН по Палестине, как невольно забирали они свои слова обратно, хотя и не крутили пальцем у виска в противоположном направлении.
Сашка знал фамилии всех политических лидеров и министров иностранных дел. Он безошибочно отличал страны социализма от стран социалистического лагеря, а те - от стран социалистической ориентации, а их - от стран, ставших на путь социалистического развития.
А как он умел считать удельный вес социализма в населении земного шара!
- Индия! – кричал он с ленинской запальчивостью, - считай наша! Добавим сюда девятисотмильенный Китай! Финляндия - отнюдь не капиталистическая страна! А коммунисты Италии и Франции?! Африка на подходе! - напирал он все больше и больше. И всё с этим проклятым капитализмом становилось ясно, как божий день.
На выбор стихотворений повлияло и национальное чувство. Сашка как раз увлекся историей еврейского народа, проглотил все, что мог раздобыть – от “Иудейской войны” - до биографий Моше Даяна и Голды Меир, - и ему хотелось прочесть что-то героическое, созвучное эпохе, когда все, конечно, осуждали израильскую агрессию, но в то же время, понизив голос, говорили: “Как наши им дали!”, имея ввиду поддержку всего прогрессивного человечества справедливой освободительной борьбы арабского народа Палестины.
Но говорилось это тихо, третий уже ничего не слышал, и только по загадочным улыбкам понимал, о чем речь.
5
- Александр Сергеевич Пушкин, - объявил конферансье - (Это был я!), - “В Сибирь”. Читает Александр Пенцер.
Артамон проиграл “Вихри враждебные”, и Сашка, подымая, как памятник, руку из самых, что ни на есть, сибирских руд, начал декламировать.
Поначалу он, как обычно, пришепетывал, и огромный, не помещающийся язык вываливался между зубами, но помалу Сашка обвык и напрягся.
“Не пропадет ваш скорбный труд!” - читал он домохозяйкам, и терпеливые женщины, знающие цену скорбному труду, согласно ему кивали, и ободренный приемом, стал он выдавать еще суровее, а последние строки: “Темницы рухнут и свобода...” - почти кричал, так что болонкина квартирантка с коляской вынуждена была отъехать аж до первого подъезда.
Саше хлопали особенно громко. И мы, удовлетворенные концертом, и зрители, и пацаны из соседних дворов, привлеченные аккордеоном. Народ хлопал, Сашка кланялся, как тут во двор въехал мотоцикл с коляской со всей Газовиковой семьей в полном составе. Газовичиха слезла с заднего сидения, вытащила платье из задницы и поперлась с сумками к себе наверх.
Ихний Сашка побежал до нас, а сам Газовик, уже как обычно под газом, стал ходить возле своего вонючего мотоцикла и о чем-то с ним беседовать.
То есть вы поняли, что Газовика в нашем доме не особенно любили. Не любили за разное.
Во-первых, он был бандит. Когда трезвый, он никого не трогал и садился играть в карты, и по своему слесарному делу запросто помогал соседям и денег лишних не брал. А вот в пьяном виде... Помню, он вылез на балкон и стал говорить:
- Жи-ды! Жи-ды! - обращаясь с осуждением к публике, которой не было во дворе, а была одна Рудичка, и он повторял это слово, пока не увидел, что она одна, и, выкинув вперед руку, закричал издевательски:
- Голда Меир! - с ударением на “ир”, вкладывая сюда всю фамильную неприязнь, с которой произносились по радио фамилии бессовестных сионистских лидеров и вообще - диссидентов.
- Голда Меир! - коверкая и речь, и лицо. И Рудичка побежала, испуганная, домой, подальше от этого бандита.
Во-вторых, у него был мотоцикл, черный, с коляской, единственное, между прочим, в нашем дворе транспортное средство, но дело было совсем не в том, и можно было б это вообще не считать, если бы не ежедневные фильмы про войну с двумя неизбежными мотоциклами с коляской, с эсэсовцами в черных кожаных плащах, очках и касках, догоняющих нашего разведчика, когда одного из них убивали сразу, а второй, настырный и особенно мордатый, всё гнался, гад, и гнался, пока наконец-таки тоже не вылетал в кювет ко всеобщей радости пацанов.
Газовик облокотился на свой мотоцикл и принялся разглядывать зрителей. Конечно, ему тяжело было жить в этом доме, где большая часть проживающих вела свою родословную с Подола и Евбаза, где даже природный украинец волей-неволей изъяснялся еврейскими интонациями и делал свои маленькие гешефты. Газовик глядел осоловело, взор его был тяжел и печален, как у памятника в парке Шевченко. Публика, разогретая концертом, еще ждала и шумела, а Рудичка, скажем прямо – не выдающийся деятель сионистского движения - как-то не гордо съёжилась на своем венском стуле, потому что ей не хотелось этого всего.... И тут Сашка, опомнившись, закричал:
- Максим Горький. “Песня о буревестнике”.
Народ моментально затих. И Сашка уже не раскачивался, а сразу, сходу пошел, максимально ударяя по буквам:
- Над седой, - ударил он по “дэ” и через “и краткое” перешел к “эр”, - Равниной моря, - и “моррря” это зазвучало вольно и мощно, и забилось над волнами гордое буревестниково сердце, - Между тучами и морем, - и эти “ дэ ” и “ эр ” звучали и в наших сердцах знакомыми школьными строчками, но Сашка вдруг осекся, и вместо решительного “Гордо реет” - испуганно уставился в зал.
- Гордо реет, гордо реет, - зашептали мы из-за занавеса, и Сашка замотал головой, и начал повторять сначала:
- Между тучами и морем, - и открыв рот, опять умолк и уже не слышал, как мамы, бабушки и тети, – «гордо реет, гордо реет», - как все подсказывают ему забытые, по их мнению, слова, и Рудичка поднялась со своего венского стула, чтоб сказать:
- Саша! Гордо реет!
И было бы так, если бы Газовик не произнес те самые два слова - имя и фамилию, которые считал, по-видимому, жидовским матюком.
Он впервые произнес их правильно, с правильным ударением, произнес довольно внятно и раздельно, но Артамон уже развернул меха аккордеона, и бессмертные “Амурские волны” поглотили и Голду Меир, и Сашку, и Газовика, и достопамятный концерт к празднику Великой Победы.