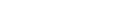Свастика
Раиса Ивановна Бурмака – старшая пионервожатая – была корявая. Толстая и бесформенная, она вкатывалась в класс на шестом или еще хуже – седьмом уроке, чтобы провести урок мужества, зачитать рекомендованную для таких занятий статью из “Агитатора”, т.е. уже - “Блокнота агитатора”, издания ЦК КПСС, названного теперь более практически и лучше. Согласно спущенной из райкома разнарядке на библиотеку выписывались три Пионерских и одна Комсомольская правда, а “Агитатор”, т.е. “Блокнот агитатора”, выписывался дополнительно, по инициативе снизу, сверх плана, на что дополнительно собирали по 5 копеек.
Когда она заходила в класс, и, морщась от изжоги, усаживалась на липкое коленкоровое сиденье, неизвестно откуда – с первой что ли парты и далее, или откуда-то снизу в классе и без того душном от присутствия тридцати восьми измученных нудотой подростков, начинало пованивать селедкой, недавно переименованной в сельдь “Иваси”. После переименования селедка, т.е. сельдь, стала мельче и дороже, но запах - тошнотворный и удушливый запах пота и нечистого женского тела - сохранила и даже улучшила.
- Сегодня, - сообщила, раскрыв затертый “Блокнот…” Раиса, - мы поведем разговор о легендарном герое, отдавшем всю … до последней капли … за светлое… всего прогрессивного… - бубнила Раиса, но каждый был уже далеко, и если бы не запах, если бы не запах, может быть никогда бы обратно не вернулся…
Фашистский знак, именуемый мерзейшим словом “свастика”, (что означает, кажется, “распылитель благовоний”), был противен не только душе, но и глазу, и пальцам, сжимающим мел или ручку, и самому тому мелу, крошащемуся сильнее, и доске…
Четыре буквы “Г”, соединенные вместе, раскрывали зловещую тайну фашистского знака – Гитлер, Геббельс, Геринг, Гесс, - и потому, если в тетрадке и на партах, то есть там, где могли доказать, что писал именно кто – он мгновенно дорисовывался, превращался в перекрещенные военные окна, хотя все знали, что на самом деле это дорисованный фашистский знак, или приравненный к нему матюк, и ни что иное.
Так, быть может, и были (моим сверстником?) изобретены почтовые индексы, которые поначалу ругали, а потом привыкли и, переворачивая, заглядывая на обратную сторону конверта, стали писать по образцу, нервным дрожащим почерком.
Но фашистский знак, эта гадость, этот костлявый паук, никогда, слышите, никогда не стал бы нашим, его никогда не разрешат, и правильно!
А писали его так, для дурацкой храбрости: ну, написал, а чего? А чё тут такое?
Жирный как раз объяснял мне тайное значение четырех “Г”, когда Раиса увидела через плечо, ЧТО ОН ПИШЕТ, и задохнулась от возмущения. Тишь, наступившая в классе, пошедшее пятнами Бурмакино лицо и мы, нет, вернее один Жирный, это он писал, я только смотрел, привели его, как говорят японцы, к потере лица, и он замямлил нахально:
- А чего? А чё тут такого? – хотя отлично знал, лукавил, юлил, выкручивался, как предатель на допросе, и Раиса Ивановна, опершись о мою парту сбоку животом, отчитала Жирного, как говориться, по всем статьям, и назавтра его маме, вызванной в школу, был задан в кабинете директора следующий вопрос:
- Вам известно, что Ваш сын рисует атрибуты фашистской символики? Рисует сам и учит этому других? – и после тяжелой продолжительной паузы, добавлено, - Вы догадываетесь, чем это может попахивать?…
Бедная мама не знала куда деваться. А Лидия Алексеевна принялась стыдить и пригвождать к позорному столбу ее сына, забитого испытанной учительской логикой, когда вопросы задают не для ответов, а чтобы зажать в позорный угол, под осуждение верных товарищей, чтобы в мозгу мигали огненные буквы и слова: “педсовет”, “детская комната”, “колония” и “отщепенец Щаранский”.
- Боже мой! Боже мой! – причитала, шевеля губами, бедная мама, более всего опасаясь, чтобы мальчик не вырос в тех переростков-мотоциклистов, чаще всего с закатанными рукавами или раздетых по пояс, однако чисто выбритых, нагло пахнущих трофейной “Фиалкой” и аккуратно стриженных под бобрик: - Матка, шнель, шнель, яйко, курка, - шиссен, пу-пу! Партизан! – и когда бедная старуха пугалась – хохотали – ржали, хамски закидывая голову, как казаки на известной картине.
Мама заплакала. Вадик стоял рядом, вареный как рак. Он тоже не знал – “Что делать?!” Он погибал.
Лидия Алексеевна перевела взор и, вновь оборотясь к маме, сказала:
- Выйди, Вадим, и подожди в коридоре. У нас с твоими родителями предстоит долгий разговор.
Мы ждали долго, потом еще, и еще… Я ушел домой, а он оставался… Неделю Вадик ходил тихий, и никогда, вы слышите, никогда не рисовал не то что свастику, а вообще ничего.