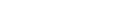Дом на Микитенко
1
Пятиэтажки строились на намытом песке. И наша - длинная, на восемь подъездов - стояла возле узенькой асфальтовой пристани и с трех сторон омывалась песком.
Поначалу песочное море подходило под самые окна, и в ветреную штормовую погоду приходилось задраивать форточки, а оно все одно просачивалось и устраивало треугольные налеты на подоконнике.
Присутствие песка обнаруживалось повсюду: и под половиком, и в носочках, и в голове, когда особенно крупное песчаное зерно оказывалось под ногтем, и в ванной, намытое после мытья, и в том углу, где хранилось оружие и аккуратные горки высыпались из оружейных стволов.
Наше неразбавленное водой песчаное море манило и одаривало настойчивых.
Долго носились мы с немецким штыком с потеками крови и меняли, меняли на все более ценное, пока, наконец, он не достался мне за одиннадцать кусков авиационной резины для рогаток.
Женька Доброханский нашел пистолет, только ржавый, но можно еще починить, а Вовчик с первого подъезда - серебряный браслет на кости.
Ах, как и я хотел найти что-нибудь такое, чтобы тайна и карта, и пещера в отблесках факелов, и визгливый абордаж над безмолвными акулами, и выматывающий душу штиль, когда солонина на исходе, и зреет дьявольский бунт, и я возле порохового погреба, под одеялом, при свете китайского фонарика, и мама отбирает у мена книгу и фонарик, и долго еще я думаю, что не сплю, а уже сплю, и ночной ветерок доносит шорох и движение песков.
В песках было небезопасно. В любой момент могла начаться песчаная буря, когда рот полностью забивается песком, и нечем дышать, и ничего не видно: ни солнца, ни верблюда, ни строящегося детского садика.
Поэтому, когда налетал ветер, мы наклоняли головы, и с невероятным усилием поворачивали навстречу. И ноги, то одну, то другую вытаскивали с натугой и передвигали медленно, как космонавты.
Тут, конечно, пригодились мои мотоциклетные очки, с дырочками по бокам, в которые песок хотя и просачивался, но немного.
Противогаз же был только у Сашки. У меня противогаза не было. Противогаз защищал от бури полностью. И даже при сильнейшем ветре, при урагане, когда мы пригоршнями кидали песок в Сашкино лицо, он только отряхивался и гудел в трубку:
- Еще давай! Кидай!
Зыбучих песков, засасывающих, как в болото, насмерть, у нас не обнаруживалось, не было. Это слегка разочаровывало. Все-таки, интересно было б посмотреть и спасти.
И, скатываясь с горки, с бархана, я кричал: “Зыбучий!” и, изгибаясь всем телом, тянул вверх руку, и кто-нибудь тут же падал и из последних сил тащил меня наверх и спасал. Изнемогшие, мы лежали плечом к плечу, отдыхали, но недолго, потому что ждать пески не могли...
2
Ап! Все-таки, у нас высокий первый этаж. Однажды я спрыгнул и об свое же колено - подбородком, и откусил кусочек языка.
Мама дала мне шесть больших картошек и пакетик соли. Игорешкина мама - полкирпичика, а спички есть у Витьки, ему разрешают. Мне спички не дают.
Я однажды со всех спичек в доме посошкрябывал серу. Знаете, такие стрелялки? Два винта вкручиваются с двух сторон в одну гайку, а между ними сера со спичечных головок, и так скручивается-скручивается до самого сжатия. Тут самое опасное - может взорваться. Прямо в руках. А потом - веревку привязываешь к болтам и об стенку дома - бах! А если не взорвалось - надо еще подкрутить. Ох, это опасно! Даже туалетный холодок пробирает, передергивает. Еще жабку можно делать из пленки, или ракету. У Алика есть ракетница. Он на праздник стрелял - одну красную, одну зеленую...
Солнце заходит. Правый берег виден отчетливо. Горит Лаврская Колокольня. А небо - красное и синее - темнеет, песок остывает, мы запаливаем кастрик из овощного ящика и досок, утянутых со стройки, и ждем, пока спечется картошка, сгорит, обуглится и все равно, сырая внутри, будет съедена, обжигаясь, как самое-самое, как будто мы “с голодного края” и “дома нас не кормят”.
Ах, какой дух шел, когда ее разламывали! Дух свободы! И огня, и бездонного неба.
3
Матюки я слышал и раньше, еще в первом классе. Курцы матюкались. Станут за школой, плюют, матюкаются, у малых деньги отбирают.
Наш сосед, когда пьяный, кричит: “Сука! Сссука!”. Но “сука” еще не матюк, и “проститутка”, и “блин”. У нас все хлопцы говорят “блин” или “тю, блин”. Настоящие матюки ни говорить, ни писать нельзя.
Однажды Мишка (он малой, на два года меня младше) возле кастрика говорит:
- Я матюк знаю.
- Ну, какой, - посмеивается Алик, - говори, или мамка не разрешает?
- Я написать могу.
- Ну?
И Мишка пишет на песке печатное “Ё” и тут же ее стирает, как будто песка мало, и пишет печатное “П”. И Алик смеется, и пацаны, и я подсмеиваюсь. Хотя чего? Нормальный матюк. Только непонятно, что он означает.
Слово из трех букв, - вы понимаете, какое, - понятно, из пяти - это женское. А этот матюк, его еще с прибавлением “твою мать” говорят, непонятный - значит, самый сильный, запретный.
Его наш сосед тоже редко кричит, боится. Потому что жена его после этого бить начинает. “Ах, ты матюкаться?” - И бьет. Там за стеной падает чего-то, гремит.
4
Когда ближняя зарядка сифонов - на Микитенко - не работала, не было газа или сиропа, приходилось мотаться аж на Перова, через пески.
И тут залобо нарваться было на босоту, на хулиганов...
Я бежал, пригибаясь, со своим металлическим трехлитровым сифоном, прячась за барханы, и за мной тащился Мурамзон, Илюшка, жирный, мясной, рыхлый как песок, со своим пятилитровым, сварным, сделанным на заказ, и оба мы повалились в ложбинку перед длинным открытым участком, и отдышивались и, присосавшись к горлышку, пили взахлеб, и не могли отдышаться. Оставалось еще метров сто. Открытого места, где нас могли засечь. По-пластунски я выполз на гребень, оглядеться.
Тихо. Ни голосов, ни дымка от костра. И мы схватили сифоны и погнали. И банда выскочила нам наперерез.
- Стой, падла! Стой, поймаю - ноги переломаю! - орал босой, в подкатанных штанах Валик, курец из 7-го “Ж”, которого уже дважды выгоняли из нашей школы, и “Детская комната милиции” уже взяла его на учет.
Илюшку пихнули, он сел на песок и сразу заплакал. А ко мне подскочил малой, чуть не садиковский, и стукнул меня кулаком в живот, не больно совсем. Я опешил от такой наглости и оттолкнул его.
- А-а! – вскинулся Валик, - маленьких бить! И тут же я получил и подсрачника, и по голове, и вырвали у меня сифон, и малой этот (братик, наверное, Валькин) полных две жмени песку сыпанул мне в глаза, в рот. И я тоже сел на песок, размазывая слезы и сопли.
А эти начали веселиться. Пили по очереди нашу воду, а напившись, стали обливаться и писать струей на песке матюки, и швыряли наше никелированное счастье, а Илюшкин, заказной, тонкостенный, били ногами и помяли бы, если б Илюшка не заорал в истерике и не стал бы их хватать за руки, упрашивать.
И они ушли, отобрав, нашарив у меня в кармане сдачу. А мы поплелись домой.
Шли молча, отведав свою порцию дерьма. А Илюшка еще долго всхлипывал, и подбородок его трясся, как у заики.
На физкультуре мы стояли рядом - я третьим с конца, Илюшка вторым, а последним - Юрочка по кличке Коза, которого вообще за пацана не считали. Илюшке было хуже, чем мне. Он был еврей, толстый, плаксивый. Бить его, щипать, забрать очки и убегать было просто и забавно. И он плакал часто, и поваленный на пол, измазывал штаны рыжей паркетной мастикой, ревел взахлеб, икал и подергивался, жмуря до невозможности глаза, и зажатый в углу, закрывался руками и обтирал стену, когда наседавшие тыкали ему в темя ручками и хватали за мошонку. На физре он ничего не мог. Висеть даже не мог на турнике, падал. И бегать его ставили с Иркой Макон, девкой, тоже толстой, грудастой. И хотя он опережал Ирку, никто этого не замечал.
Илюшку били и в шестом, и в седьмом. А после восьмого он ушел в ПТУ, потом в армию. И встретились мы только лет через семь, когда я случайно забрел в Альпклуб на вечер самодеятельной песни.
У сцены стоял красивый мужик с борцовской шеей и гордой осанкой и глядел на меня в упор. “Илья!” - “Серега!” - “Где? Как?” Оказалось, все просто. Секция вольной борьбы. Служба в ВДВ. Сейчас - кмс по альпинизму. Готовится к экспедиции на Памир.
Если бы вы знали, как я обрадовался и, встречая одноклассников, с восторгом сообщал им про Илюшку, Илью. “А Илья-то, Илья! Ты б его не узнал. Богатырь! Мужик! Едет на Памир! Альпинистом!”
Я ликовал и заражался надеждой. “Ведь может, может человек сделать себя счастливым, хозяином жизни. Есть, слава тебе Господи, высшая справедливость. Воздалось ему за страдания его. Преодолел”.
А еще через год, провожая на Берковцы сослуживца, наткнулся я на свежезабетонированный памятник, напоминающий скалу с огромной рваной трещиной, скалу, расколотую посередине. Это был памятник трем альпинистам, погибшим на Памире. И среди них - моему одногодку, однокласснику Илье Мурамзону.