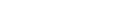Город Киров
1
В Киров мы ехали в мягком вагоне поезда “Москва-Пекин”. Ехали к месту службы моего папы, капитана, который уже два года сидел на точке в ржавом от окислителя лесу, в лесу, зараженном энцефалитным клещом и межконтинентальными ракетами, в 40 километрах от холодного и голодного Кирова, где сгущёнка считалась роскошью, а мясо можно было поесть разве что в ресторане,
Папе отказывали в переводе домой в Киев, и потому мы ехали к нему, на Север.
Бабуля была категорически против.
“Я спрашиваю тебя, чем ты будешь его кормить? Здесь он по¬лучает все, все свежохонькое. Надо творожок? Пожалуйста. Я пошла, не посчиталась, взяла на Бессарабке. Витамины, фрукты, он, “нивроку”, все получает. И такой бледный, худой. Что сказал профессор Сигалов? “Надо усилить питание”. Усилить. Надо вываренный кусочек мяса: телятинку. Надо козье молоко. Он должен получать яичко. И то, и то - все он должен получать. Нет ограничений. А ты хочешь взять его на консервы?! Что ты
делаешь? Что ты творишь?! Посмотри на него, такого больного ребенка тащишь неизвестно куда?! А если он, не дай бог, не приведи Господи, заболеет туберкулезом, что ты будешь делать?!
“Юрочка! Юрочка!” С твоим Юрочкой ничего не случится, не выхватят. Ты подумай о ребенке. Ты разве мать?!”
Но мама все-таки решила ехать. И, скармливая мне второй бутерброд с красной икрой, купленный на московском вокзале, думала, конечно, о том, как это будет, и как на ребенке скажется перемена климата, а еще, наверное, о встрече с мужем, осунувшимся тридцатилетним капитаном.
Купе было на двоих, просторное, идеально чистое, теплое и уютное. Диваны, крытые темно зеленым вельветом, салатовые занавески на окнах, столик полированного дерева, скатерть с вышитыми на ней птицами и лампа на столе, настоящий китайский фонарик с зеленым же драконом, вьющимся вкруговую по абажуру.
(Я пиcал эти строки в октябре 1994 г. в разбитом, разломанном, продуваемом туалетной вонью и печной гарью вагоне, на прокисшей, как собачья похлебка, постели, и тяжко, и гадко было у меня на душе...)
В дверь купе постучали. В защитной тужурочке и фуражке появился проводник-китаец и, кланяясь, предложил нам чаю с печеньем и вафлями. Мы попили чаю, и мама спросила у проводника утюг погладить мне брючки, и он пришел к нам с маленьким изумрудным утюжком и, непрерывно смеясь, погладил сам, и денег не взял ни за что.
А еще он принес шахматы из слоновой кости с томными надменными лицами у королей и королев и настоящими слонами. Фигурки лежали на зеленом бархате, каждая в отдельной лежаночке, и не слышали мата и пьяной ругани, доносившихся из соседнего купе 1994 г. Фигурки лежали тихо, каждая на своем месте, и я брал их, одну за другой, и укладывал обратно, лицом вверх, и не хотел с ними расставаться.
2
В Кирове было неуютно.
На первой – общей - квартире к нам в комнату все время без спросу забегал лысый трехлетний мальчик и хватал все мои игрушки. Я только-только познакомился с детьми во дворе (“Хочешь кровь? На!”- и совали под нос снег с кровью. А то была краска...), - мы переехали на другую квартиру. И опять жили, как на разорванной дороге, и ждали перевода, и не
пытались обустраиваться, обживаться надолго.
Зима в Кирове была холодная, тяжелая. На меня надевали баевую рубашку, теплую шерстяную кофту, меховую цигейковую безрукавку, чулки и шерстяные носки, ватные штаны и потом длинную меховую шубу с мехом и наружу, и внутрь. Шапка надевалась почти на глаза, рот и нос обвязывали шарфом, и валенки, большие, с тяжелыми галошами, и несгибаемые кожаные, на веревке, рукавицы дополняли костюм глубинного водолаза. Казалось, процесс одевания затягивается бесконечно, и я ненавидел эти пуговицы на воротнике рубашки, на шапке и - верхнюю на вороте шубы, и еще кусучий шарф, мокрый от дыхания и слюней, и самозакатывающиеся рукава кофты, которые нужно было придерживать, а они все равно выскакивали и закатывались.
Но было и другое, неожиданное и веселое. На проспекте Коммуны мы жили в большом пятиэтажном доме, построенном для офицерского состава. Соседи наши - три или четыре семьи - приходили к нам на сгущенку, а мы к ним - на телевизор. Жили дружно, по-простому, по-пролетарски. Делились чем было, присматривали за детьми и, отправляясь в магазин, обязательно спрашивали, не взять ли чего.
Это означало, что в хлебном можно было взять хлеб, в овощном - “салат любительский”, состоящий, как человек, на 95% из капусты, в кондитерском - леденцы, именуемые “хрустики”, а в Центральном гастрономе - колбасу из конины, если повезет.
И водку. Ее пили дружно. Каждое воскресенье, законно, весь город, и мужчины, и женщины принимали беленькой, и автобус №1 - “однойку” - раскачивало от поголовного опьянения еще сильнее.
Народ ехал на набережную Вятки, на площадь Ленина и в парк культуры и отдыха, всё разом - пройтись, на людей посмотреть и себя показать. Пели, икали, падали, а то еще катались с ледяных гор, так, без санок, упал да понесло!
И дрались, конечно, а как же. Помню, Иван Степаныч, наш сосед, ухнул себя топором и пол пальца долой. Ничего, присыпал рану землицей, однако, не отрезвел, а тут жена, ну и дал ей, чё? Так теть Валя неделю с глазом и ходила, а он, человек хороший-та, все жалился, рану показывал, просил прощения.
Наибольше всего мне нравилось гулять на площадь Ленина, где каждый Новый год отливали изо льда великанские - метров 5 и более! - фигуры: Деда Мороза, Оленя, Ракеты с ледяной же горкой вокруг, винтовой. И в каждой фигуре - как это могло быть? - светились разноцветные лампочки. У Деда Мороза - в мешке с подарками, а в Ракете - так-от, сверху вниз. И я все допытывался: почему от лампочек лед не тает, а они от мороза не лопаются? Но мой вопрос оставался без ответа.
3
Киров запомнился непрерывной ночью и снегом, и яркой лампочкой, от которой я просыпался и хныкал, и отворачивался к стене, когда за папой ночью по тревоге приезжал солдатик и папа, захватив пистолет “Макаров”, уезжал, и мы с мамой оставались одни.
Однажды утром мама гладила, я сидел рядом и рисовал, как вдруг радио передало: “Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!..” Мама прислушалась и села на табуретку. И утюг опустила прямо на белье.
- Война! - только и выдохнула она, побелела. А репродуктор продолжал, и выяснилось — нет! не война! Наш космонавт, страны Советов, в космос полетел. Юрий Алексеевич, а фамилии я не расслышал.
- Папа! - закричал я. - Мама! Это наш папа в космос полетел! (Вот куда его каждый раз по ночам забирали, на ракете учиться!) Ура! Мой папа - космонавт!
А мама плакала от счастья, успокаиваясь. Потому что не было войны. Понимаете, войны нет! Вот, счастье, слава тебе, Господи, - причитала мама, - Слава тебе, Господи!” И я удивлялся, причем здесь Бог. Бога нет, раз ракета полетела.
К нам приходили, радовались, сообщали, и теть Валя забежала:
- Слыхали? Наш-то комсонавт - первый в мире. То-то они скрежещут, а наш-то, Юрий Гагарин - первый. Уже приземлился, благополучно, уже!
А я не верил, что это не папа. Пока папа не пришел вечером с дежурства и уже точно сказал, что это не он полетел, а Юрий Гагарин - первый в мире космонавт. Тут теть Валя позвала нас, и мы побежали смотреть Специальный выпуск новостей. И я никогда не забуду старты космических кораблей, и как Юрий Гагарин, уверенно, в папиной военной форме, шел, отдавая честь, и докладывал. А Никита Сергеевич Хрущев радовался ему, как сыну.
4
Раз в месяц в нашей семье наступал настоящий праздник - мы получали посылку из Киева, от бабушки и дедушки. Я уже стал понемногу забывать их, но каждый раз бабуля напоминала о себе. И оказывался там свисток или солдатик, или популярная тогда механическая Дюймовочка, раскрывающаяся от кручения.
Главным же в посылке был шоколадный торт с орехами “Мишка” домашнего приготовления, а еще украинская колбаса, уложенная в бочонок и залитая смальцем, и консервы, чаще всего “бычки в томате” и “тушенка”.
Дед Яша так крепко сбивал и обшивал посылку, что мама, как правило, сама не открывала и дожидалась папиного прихода. И это ожидание было для меня непередаваемо мучительным.
Как я мечтал тогда вырасти поскорее и научиться вскрывать посылки!
Это умение становилось мерой взрослости. Я внимательно приглядывался, как папа поддевает фанеру топориком, и понимал: нет, не скоро мне дадут его, а то еще, как Иван Степаныч, палец отрублю... Но эта легкая грусть моментально улетучивалась, когда из ящика, наконец, извлекался квадратный кусок торта, размером с полкирпича или даже больше и, несмотря на предстоящий ужин, мама все-таки отрезала мне кусочек, на пробу.
5
У меня появились настоящие друзья - Борька Борисов из второго класса и Женька Финкельберг - так же, как и я, с первого.
Помню, с пацанами из соседнего дома мы трое бросались снежками, и Борьке, самому смелому из нас, они попали ледяной, запрещенной, прямо в лоб, и сильно пошла кровь.
Надо было что-то делать, спасать. Подхватив Борьку, как раненого, мы направились к нему, но у него дома никого не оказалось, и тогда мы побежали к моей маме, но Женька упросил сначала зайти к нему, по дороге, и Женькин папа достал нам из аптечки бинт, вату и зеленку, и Борьку, как героя, стали спасать, мазать и перевязывать голову бинтом.
Тут Борька стал вдруг искать шапку и не нашел, и испугался, и мы побежали снова на двор, и там, у окопов, нашли ее, и вдвоем аккуратно надели сверху на повязку. Борька был спасен. Он молча пожал Женькину руку, и мою, сказал: “Ну, пока”. И пошел домой.
Мы, первоклассники, спасли второклассника! Это было здорово, лучше даже, чем “Мишка” с шоколадным кремом и орехами, лучше всего!
Потом в жизни мне случалось опаздывать, останавливаться перед тем, как броситься безоглядно на выручку, и неотвязный стыд был горек и тяжел, как та легчайшая и сладостная радость, радость спасения, подаренная мне ледяным запрещенным снежком.
6
Лучшим местом в Кирове был краеведческий музей, заставленный наполовину вятскими и дымковскими игрушками - дурацкими на мой тогдашний взгляд лошадками и кривоногими тетками, которые любой малой может вылепить из пластилина.
Конечно, не они привлекали мое внимание, и не чучело медведя, и не черепки и каменные наконечники стрел, а ящеры - динозавры, ихтиозавры, тиранозавры, птеродактили, плезиозавры, бронтозавры, диплодоки, игуанодоны, стегоцефалы и прочие восхитительные названия, и размеры, и пасти.
Мы часами простаивали у картинок под оргстеклом и спорили, могут ли птеродактиль и бронтозавр победить одного тиранозавра? А два птеродактиля? А ружье с разрывными пулями? А “Катюша”?
На высокой подставке, но все же сильно захватанный детьми, стоял бронтозавр, единственная в музее скульптура, размером с санки. Я приносил с собой солдатика и тихонечко ставил его рядом с бронтозавром на подставку и поражался, какой он громадный. Я слышал тяжелое дыхание и скрежет его чешуйчатой брони, и мерные бухающие шаги. Пумм! Пумм! Пумм! Грохот их приближался, я замирал и прятал солдатика в карман.
Меня водили в Музей часто: и мама, и соседская девочка, и учителя водили весь наш класс. В Музее было тепло и тихо. Ни пьянства, ни мордобоя...
Зима тянулась долго. С морозами до сорока пяти, когда снег скрипел, как металл по стеклу, с метелями, сонными и вьюжными, хватающими мгновенно за кончик носа, щеки и пальцы на ногах. Зима тянулась, как ночь, и народ уставал от нее и пил на масленицу и в пост, ждал. Чего?!
- Ледоход! Ледоход! - закричали на второй перемене. Уроки были отменены, и вся школа - и дети, и учителя - двинулись на набережную - смотреть.
Я никак не мог понять, что здесь особенного. Река скрипела, льдины наползали, и между ними то там, то здесь показывалась черная от долгой зимней ночи вода. Люди переговаривались не шумно. Ни флагов, ни транспарантов.
И тут – выглянуло солнце. И осталось надолго, и все заулыбались, глаза заискрились, народ зашумел, засмеялся. Заиграл и запел репродуктор, а с того – сельского - берега, запикала гармошка.
Льдина пошла веселее. Ледоход!
Вот оно что! Это праздник такой! А скоро 1-е Мая и День Победы. Однако мама говорила, что встречать-то уже будем в Киеве. Скоро едем. Папу переводят.
Долго мы еще вспоминали хороших вятских людей и посылали украинскую колбасу в бочонках, залитую смальцем. Вспоминали по-доброму. Но возвращаться туда не хотелось.