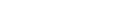Перебирая гречку
Однажды в Ужгороде, я наблюдал картину, которая по непонятным тогда причинам напрочь осталась в моем сознании. У калитки богатого особняка девочки обсуждали вышивание. Старшая из них, лет тринадцати, хорошенькая и уже понимающая это, водила пальчиком по полотну, натянутому на круглую рамку. Разговор шел на венгерском, я ничего не понимал, но не уходил, хотя и стоять-то было неловко, не уходил. Юная красавица, исполненная девичества, проводила то одним, то другим, — средним и безымянным — пальчиками по шелковым нитям вышивания, как будто трогала крепкое мускулистое плечо или загорелую мужскую грудь, узнавая его молодое тело, и ему было немного щекотно, но, прикрыв глаза, вслушивался он в эту робкую девичью нежность, в бархатистые пальчики и вдыхал запах чистоты, молодости и цветущего розового куста у калитки.
И только сейчас я понял, что уже видел это волнистое движение пальчиком, однако без жеманных изгибов и легкой любовной судороги, а простое, житейское, наполненное скорее не чувством, а размышлением.
Так бабуля перебирала гречку.
Надо сказать, что некоторые старушки исполняют сие занятие быстро, и рука их мечется, отбрасывая в сторону сор, и дрожит, как паркинсоновая.
Бабуля же не торопилась, и от меня тоже требовала качества, а не суеты, и в эти минуты, а то и часы, была особенно расположена к беседе, к рассказам о своей жизни, о молодости.
А начиналось так. Часу этак в четвертом доставала бабуля из буфета пластмассовую макитру с притертой крышкой и высыпала на чистый кухонный стол - он всегда был у нас чистый - горкою гречку.
Затем бабуля надевала очки и, уделив мне, “зоркому мальчику”, некоторое количество, рассеивала ладошкой крупу по столу и, углядев инородное тело, накрывала его своим пухлым пальчиком и выводила в сторону. Занятие это, на первый взгляд, простое, имело определенные методологические тонкости. Например, если камни, бочонки, неизвестные зерна отметались безусловно, то нелущеная гречка или дробленая, вызывали дискуссии - оставлять или выбрасывать. И тогда мы склонялись и вглядывались в подозрительное зерно и я кричал, что оно хорошее, а бабуля - слипандя! - снимала и надевала очки и, наконец, посылала меня в спальню, где в шкатулке с пуговицами и нитками хранились потертое увеличительное стекло. И тогда она убеждалась, что я прав, и отводила спасённую крупинку к перебранной кучке.
Конечно, временами я шалил и грозился смешать очищенное и мусор, и бабушка не на шутку сердилась, пугалась и, прикрывая ручками с перевязочками и всем телом гречневое поле, клялась, что “в жизни не допустит меня, если я посмею!”
Но чаще всего мы сидели рядышком мирно, и бабуля успевала следить за мной и поглядывать в окно на улицу, поджидая Яшуню, и самое главное - вспоминала детство и молодость,
довоенную и послевоенную жизни, и братьев, у которых было по шести пальцев на ногах, убитых под Лугой, и новую 4-х комнатную квартиру в Полтаве, куда в июне 41-го завезли новую мебель красного дерева и зеркало вертящееся, овальное (ох, это была сказка!), и соседа - лунатика, ходившего ночью по карнизам, которого немцы сбросили с балкона головой вниз, и голод, эвакуацию в Мордовию, и жирную мордовку, черную, давившую вшей и нарезавшую золотой от отрубей хлеб одним и тем же ножом (вот она вшей - и тут же - хлеб!), и сытый Кисловодск в 47-ом, голодном году, когда Яша стал директором санатория, и детям под кашу дедушкин повар тайком подкладывал масло, а это несчастье (т.е. моя мама!) еще фыркало! - и много, много всего...
Я заслушивался и забывал перебирать, как вдруг бабуля освещалась улыбкой и показывала в окно на Яшуню, осторожно переходившего нашу речку Вонючку по доскам: “Яша! Иди встречай!” И я бежал навстречу.
Однажды я услышал, как мама, торопясь, спросила у бабули: “А зачем вообще перебирать ее, мы же варим, кипятим?” И увидел возмущение, презрение и поджатые губки: «Чтобы я своими руками дала ребенку яд?! А если попадется какая-то гадость, зараза, ядовитое зерно или что-то?!»
И вот это таинственное “что-то” довольно долго казалось правдоподобным объяснением совершаемого деяния. Хотя на самом деле причина была, по-видимому, в другом. В привычке. И в особом статусе перебирания гречки - не работы и не отдыха, а чего-то третьего, среднего, - занятия, которое сродни вязанию или вышиванию, а еще ранее прядению или расчесыванию льна, когда ручки сами по себе, а думы далеко, и хочется петь и рассказывать, сказки говорить.
На чистом столе, на кухонном столе
Насыпана горкою гречка.
И бабушка тоже позволила мне,
И мне разъяснила, конечно.
И я выбираю из тех пирамид
Бочонки, и черность, и камни,
И бабушка строго за этим следит,
И сказку заводит, и песнь говорит,
И водит над гречкой руками.
И я забываю про собственный труд,
И слушаю пальчики эти,
И лучшие годы над нами текут,
Над лучшею кухней на свете.
И мне наливают – но это потом –
Тарелочку гречневой каши,
Которая прячется под молоком,
Разбухшая прячется под молоком,
Как воспоминания наши.