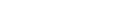На базар
На базар, на третью просеку, можно было добираться двумя путями.
Можно было идти по Северной - дачной улице, проложенной в высоченном сосновом бору.
Позже, когда я побывал в Юрмале, я понял, что уже видел нечто прибрежное, северное у нас, в Киеве. Только вместо прибоя, там, на Брест-Литовском проспекте, дребезжал трамвай.
Меня этот путь не привлекал. Северная просматривалась как Невский, и, кроме коры для корабликов и шишек, Северная ничего особенного не сулила. Но была еще дорога по самой Беличанской, через заброшенную дачу, вниз, в овраг, а в овраге через ручей по тракторным покрышкам, и наверх, мимо марельки и шелковицы, в проход между двумя заборами - прямо на площадь перед базаром, прямо в спину керосинной лавке.
Конечно, бабулю трудно было уговорить идти этим путем.
“Буду я лазить в грязи!” Но я упрашивал, и Соня соглашалась. Мне кажется, что и ей самой хотелось пройти по оврагу и, немного побаиваясь - по замкнутому пространству безлюдного переулка. Другим серьезным аргументом была прохлада - этот путь проходил в тени, из оврага потягивало холодом, а как-то раз, на майские, мы докопались до глыбы грязного слежавшегося снега.
Бабушка взяла два бидона - белый эмалированный для сметаны, и квадратный, жестяной для керосина, в кошелку положила кошелек и последнее изобретение хозяйственной мысли - нейлоновую растягивающуюся авоську, которая пустой была величиной с ладонь, а с грузом растягивалась до размеров большого мусорного ведра.
...Яша, когда привез эту авоську из Венгрии - яркую, оранжевую с двумя трубчатыми пластиковыми ручками - радовался, растягивая, демонстрировал ее невероятные возможности, засовывая туда еще и еще. Бабушка волновалась, чтобы не порвать, а Яше все хотелось запихнуть еще и балеток, и надо было видеть, как он-таки аккуратно засунул и его. И, сидя втроем с авоськой-рекордисткой на кухне, растягивал, просто трогал, мусолил оранжевые волокна и советовался с Софой насчет этого рацпредложения на фабрике...
Необходимо сказать, что на базар бабуля одевалась не так, чтобы «все они подохли от зависти и злости», но конечно, не в старье, не в лишь бы что. Это дома она могла ходить в пахучем от чистоты и американского мыла дрантье, но на людях... Я не помню у нее базарного платья, которое не страшно было запачкать.
Вот и сейчас на ней было бежевое (кофе с молоком) крепдешиновое платье в меленький цветочек и белые лаковые босоножки, обеспечивающие легкое предынфарктное состояние у Тецьки (с безусловной счастливой реанимацией!), потому что моим путем мы проходили мимо Тецькиных окон, и это был третий, решающий аргумент в мою пользу.
Мне надели шапочку и мы пошли.
В овраге было темно и холодно. Я первый выбежал на солнце, на самое пекло, и теплота его прошла в мои голые ноги до костей, как горячая ванна. Ширина прохода между заборами позволяла передвигаться по нему, расставив руки и ноги, и касаясь ладошками то одного, то другого забора. Так, раскачиваясь, я добрался до середины, как вдруг слева на забор бросилась огромная собака, ударила в него лапами, и хотя я знал, что забор крепкий, одернул руку и остановился, оглянулся.
Бабули еще не было. Собака рычала и рвалась, я попятился, но тут, отдуваясь после подъема, показалась бабуля, недовольная (“Кому я сказала, не гнать! Я буду скакать за тобой по горам?!”), гаркнула на собаку (“Какие-то ненормальные живут за этим забором, иметь такую психическую собаку!”), успокоилась, и мы вышли на площадь.
Площадь перед базаром была покрыта пластами старого асфальта, высохшей на солнце грязи, а также налетами чистого белого песка неизвестного происхождения. На песке стояла керосинная лавка, сшитая из чёрных, замазутченных листов.
Снаружи сидел кочегарного вида голый до пояса человек и наливал мерной кружкой с длинной вертикальной ручкой керосин.
Во рту его, прилипшая к нижней губе, мокла сплющенная крест накрест папироса.
- Невкусно, - подумал я, - потому что на днях сам из газеты свернул трубочку, влажный конец ее размяк, расползся в кашицу, и я долго плевался.
Первым делом мы пошли в овощной. И на подходе к нему я увидел нечто. Навстречу, с вылупленными от заикания глазами, шел Сашкин папаша и нес авоську, в которой поверх чего-то стоял ананас.
- Здрастуйте, Софа Михаловна, - первым поздоровался он обрадовано. - Вот! Дают ананасы. Я взял.
Бабушка посмотрела на него, потом на ананас, потом опять на Михаила Ароновича. Сашкин папа страдал эпилепсией, и бабушка, когда она была в дружбе с Женей, Сашкиной мамой,
сочувствовала ей и жалела его, а когда была с ней “на ножах”, то жалела его вдвойне и говорила, что он работает как лошадь, с утра до позднего вечера сидит в своей будочке на базаре и боится как осиновый лист.
(... Потому что, как вы понимаете, все же нельзя оформлять, каждый раз он дрожит, когда даже своим: “Я сейчас, - берет ручку, - выпишу вам квитанцию,” - ждет, чтобы сказали со значением: “Спасибо, Миша,” - мол, не надо... А не дай бог? А если фининспектор? Все! У Цилика отобрали патент. Он год был на голой зарплате...)
В овощном пахло ананасами. Пахло с горки за спиной продавщицы, где они были аккуратно выложены, и рядом на прилавке, с тарелки, где ананас лежал в разрезанном виде, сочась.
Люди брали хорошо. И не потому, что “Ешь ананасы, рябчиков жуй...”, и не из стадного чувства. Может быть, ананасами пахло из “Детей капитана Гранта”, из музыки Дунаевского, из Гагарина, который должен был вот-вот полететь...
В шесть лет ананас стал для меня тем, чем в двенадцать - дуриан.
Вы, конечно же, пробовали дуриан?! И на Бессарабке не видели?
И я не видел и не пробовал. Я читал. У бабули был оранжевый том Майн Рида; “Белая перчатка”, “Остров Борнео”, “Охотники за бизонами”. Именно в “Острове Борнео” и было про дуриан, или дурьян, про самый опасный, самый вонючий и самый вкуснейший плод в мире!
Вот он - шипастый шар, срывается - бах! и голова раскалывается шипом, а ему хоть бы что!
Скрывается - срывается,
И – шпок - шипок!
И вытекает, знаете,
Висок в песок!
И дурианов нигде нельзя купить, потому что у них самая нежная в мире мякоть и они моментально портятся.
Баснословно нежны дурианы.
И ракетою - не довезти...
О, родные заморские страны,
Доползти бы до Вас, догрести!
И еще у них самый противный, отвратительный запах - такая вонь, что невозможно дышать и надо зажимать нос, когда подносишь кусочек ко рту.
Но тот, кто хоть один раз маленький кусочек попробовал - никогда уже не может оторваться от дуриана, такой это потрясающий плод.
ДУРИАН
Смертоносней, быть может, анчара
В непролазной чащобе ночной
Многорогий лобастый бычара –
Он, как бомба, висит надо мной.
Апельсиновый том Майн Рида,
Рассказал мне о нем для того,
Чтобы “вегетарьянской корридой”
Я назвал, изощряясь, его.
Вот он целится в самое темя
Сквозь развивы и свивы лиан;
И, быть может, отмерено время
И сигнал уже, видимо, дан,
И, наверно, он скоро сорвется,
Разрывая и раня листву...
Но, конечно же, все обойдется,
И домой я его понесу.
И испробую вкус бесподобный,
Неперевосторгаемый вкус!
И каштанам моим, несъедобным,
Я поведаю, как Иисус.