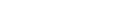Тридцать первое
Оказывается, кроме шести человеческих чувств, есть особенное - невеселое, которое можно было бы определить, как старческое, предосеннее или предзимнее, финальное, хорошо знакомое людям пожилым состояние или, если хотите, настроение – к которому, впрочем, уже попривыкли и не замечают.
Чувство это рождается в детстве. Вот и я впервые испытал его тогда у бабушки на Беличанской. Тридцать первого августа...
Тридцать первого августа, если только 1-е сентября приходилось не на выходной, на меня находило гадкое чувство, которое ни унынием, ни тоской, ни печалью назвать в точности нельзя.
Попытка выяснить, что это такое, мало что дала. На репортерское “Что вы чувствовали 31 августа?” мой сын ответил: “У-у, завтра в шко-олу!” А когда я спросил: “Ну и что? Там же друзья, неужели неинтересно встретиться?!” – последовал ответ: “У-у, не хочу!”
Жена моя вспомнила, что день этот, 31-го, казался с утра особенно длинным, как растянутое мгновение, но с каждым часом убывал, и это убывание ощущалось физически. А мой отец, напротив, припомнил скоротечность того денька, последнего, вольного...
Я проснулся, как обычно, радостно, и вдруг вспомнил, что завтра в школу, и сегодня вечером возвращаться от бабушки домой, на Воскресенку.
Если бы Фелик не постучал в батарею, я бы погрузился в это гадкое чувство и ныл бы до завтрака, и бабушка трогала бы губами мой лоб, проверяя, нет ли температуры. Но Фелик, к счастью, постучал, и я, как обычно, побежал на кухню и, торопя бабушку, глотал, не прожевывая, и даже не заметил, что “Пионерская зорька” - ежедневная радиопередача - была посвящена школе.
День казался бесконечным, я бежал по ступенькам и уже слышал, как Шустрик надувает мяч, и тут бабуля крикнула мне с верхней площадки:
- Смотри, не бегай, как скаженый, завтра в школу!
“Завтра в школу!” - гулко зазвучало в парадном, и вышел я уже не спеша, как повзрослевший на год человек. Мы нагонялись в футбол, а после футбола побежали на стройку, на теплый снаружи песок, и там рыли ходы, а потом начали строить из досок и рубероида блиндаж, и Сашка Газовик пообещал вечером вынести фонарик, и я сразу не понял, что это уже будет без меня.
А понял я это, обедая, когда бабуля, глядя на часы, заволновалась, что нет мамы и папы, за мной, и это уже окончательно дошло.
Все-таки, пообещав не гонять, я отпросился еще на улицу, якобы встречать маму и папу, и во дворе уже сидели на скамейке, играть не хотелось, и на душе было безрадостно, т. е. уныло, печально и горько одновременно. И к маме, вошедшей во двор, я побежал, но не так, не безумно, и остановился, не добежав, и подошел.
Мама заволновалась, потрогала губами мой лоб и повела одеваться.
Меня, отрешенного, торопили, потому что на Воскресенку, на Левый берег нужно было добираться двумя трамваями, с пересадкой, каждым от конечной до конечной.
Путь был долгий, больше двух часов, и в каждом трамвае я засыпал, как космонавт в анабиозе, и уже на Воскресенке, разбуженный и совершенно одуревший, вывалился из залитого электрическим светом трамвая - в зябкую предосеннюю темноту.