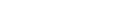Сладкая жизнь. Поэма о струделе
Возьмите хорошее.
Все, что хотите –
Изюм и орехи...
И так уверните
С вареньем,
С цукатами, -
Все пригодится.
Хотите корицу?
Возьмите корицу!
Но масла на противень
Больше налейте!
И газа, послушайте,
не пожалейте.
На сильном огне
Чтоб оно аж шкворчало!
Но это, товарищи,
Только начало
Заостренной спичкой
Его проверяют.
На слабом доходит –
Его вынимают.
Потом нарезают
Хорошим кусочком
И ставят обдуть,
Охладить ветерочком.
Моя сладкая жизнь началась с легенды. Мама рассказывала, что однажды, еще до войны, когда она была маленькая, директор шоколадной фабрики подарил им избушку с медведями, всю из чистого шоколада. И, конечно, мама сразу съела ее, и ей стало плохо от переедания шоколада, ее всю раздуло, она опухла и долго потом на шоколад смотреть не могла.
Конечно, это было завидно.
Я представлял, как я отламываю кусок медведя, первого, а их еще два, а еще потом дом - литой, тяжелый, и совсем не надо торопиться, а шоколад такой бурый, почти черный, чуть горьковатый, и слюна от него густая, и главное - не торопиться глотать.
Когда Яша, еще на Жилянской, водил меня гулять, мы останавливались у кондитерского ларька, и Яша покупал мне две конфеты, “Мишку” и “Белочку”, настоящие, не соевые.
Я разворачивал одну, а вторую прятал в карман “на потом”, и там, в золоте, открывался “Мишка”, пахучий, с поперечными вафлями, твердый, и я откусывал его зубами по маленьким кусочкам, помня о том, что в кармане греется “Белочка”, в которой еще больше шоколада, и орехи. “Мишку” и “Белочку” я любил наибольше всего, хотя и “Ананасные”, и “А ну-ка, отними!”, и “Песни Кольцова”, и “Красный мак”, и “Кара-Кум”, и “Лісову пісню”, и “Пиковую даму”, и “Чапаева” я тоже любил, потому что начинка в них была не белая, а какая-нибудь вкусная, кофейная или желе, или с ликером.
Шоколадки покупались редко, и приравненные к ним “трюфеля” я попробовал впервые, когда папа принес ордер на квартиру, и грыз с трудом, твердые, настоящие. Собственно, вот и все.
Это потом появились конфеты в коробках, “Метеориты” и “Планеты”, поражавшие своим размером, и “Золотая нива”, и “Золотой орешек”, и “Вишня ... и “Чернослив в шоколаде”, и “Ассорти” Львовской фабрики “Світоч”, и шоколадно-вафельные торты, маленький в рубль десять и большой в два десять, которые нож не брал, таково было качество шоколадного литья.
А пока я только держал в руках фантик от “Гулливера” и поражался размеру этой великанской конфеты.
В нашей семье конфеты на праздники не покупались, а вот в будни мама или Яша, нет-нет, да и приносили грамм эдак сто пятьдесят, и ребенку, для которого шоколад был безусловно вреден, выдавалась одна конфета, а потом как-то сама собой и вторая, а если после еды, то и третья... В общем, скоро кулек становился пустым, и я нюхал обертки, как бедные персонажи “Чиполлино”, и мечтал о каком-нибудь домашнем изобретении, мороженице или вафельнице, или шоколадно-варочной машине, выжимающей его, как стиральная, из “гоголя-моголя”.
Попытки создать кондфабрику на дому, - начиная с жженого сахара или сгущенки, которую варили долго, как кукурузу, или пирожных “картошка” из перемалываемого на мясорубке печенья, - не оставляют меня до сих пор.
В самом начале девяностых, когда сахар уже стал по талонам, к нам приехал Серго из Еревана, и сообщил о своем решении наладить у нас бизнес по производству сахарной ваты. Пока мы под руководством Серго варили сироп, бабушка сшила из клеенки защитный цилиндр диаметром около метра. В центре цилиндра установили соковыжималку и на открытый нож стали лить сироп, который должен был разлетаться сахарной нитью, - я уже приготовил вилку для ее наматывания, – но почему-то струя разлеталась каплями и вся кухня до потолка, и участники эксперимента покрылись дефицитными брызгами и бабушкиными вздохами и стонами. Благодаря клеенке удавалось спасать не более двадцати процентов сырья. Так прошел первый килограмм сахара, второй, пошел третий... И вдруг – на какое-то мгновение мелькнула паутинка.
- О! - утирая сладкие слезы, сообщил Серго удовлетворенно. И пообещал, что он обязательно узнает и пришлет нам от специалиста из Еревана - он знает одного такого отличного специалиста - “правильную скорость вращения в зависимости от концентрации сиропа”.
У бабушки хранились разные кондитерские приспособы: тавровые печати на длинных штырях с ручкой для изготовления хрустиков, вафельницы и “орешницы”, ванночки для леденцов, пасочницы разных размеров, и, конечно, оцинкованные формы для коржиков: звездочки, сердечки, ромбы, цветочки и пр.
Коржики производились повсеместно, раз или даже два в неделю, на скорую руку. Потому что, спрашивается, с чем дать ребенку на полдник стакан молока? Или на ночь стакан ряженки? Или стакан крепкого чаю утром перед работой Яше?
Покупное печенье, это “Целинное” или еще хуже “Старт”- никто у нас не покупал. А пекли коржики - с маком и корицей, с какао и ванилью, просто обсыпанные сахаром, и самые-самые простые на маргарине или даже без него.
Проще самых простых был “подпалык” – лепешка на муке и воде с солью и содой, погашенной уксусом.
Я упрашивал бабулю спечь “подпалык”, когда кончались коржики и яйца, и маргарин, и бабушка, недоумевая, соглашалась, скребла по сусекам и непременно вспоминала ту муку, крупчатку:
- Разве это мука? - спрашивала она, набирая рукой из фаянсового бочонка и высыпая на стол.
- У нас в Полтаве, - сообщала она, замешивая, и я следил, как создавалось хлебное тело и набрякало, и жизнь, шипучая, как гашеная уксусом сода, уже теплилась в нем, в колобке, - У нас в Полтаве были вот такие булки!
Скептически оценивал я высоту такой булки - выше, чем шире - и не верил, и не считал это, честно говоря, важным.
“Подпалык” уже подходил! Я хватал его горячим, разламывал и грыз с превеликим наслаждением человека, открывшего тайну зерна, муки и хлеба.
Но, кроме коржиков и подпалыков - простых ежедневных радостей - были праздники: пироги с маком и вишнями, “Мишки”, “Наполеоны” и “Кутузовы” и, наконец, - струдель, или, как у нас говорили, штрудель, - небольшая спиральная галактика, погружение в которую, в эти летящие навстречу осколки орехов, изюмин и варенья, в эти пласты наслаждения...
Вкусно было так, что хотелось, не открывая глаз, еще медленнее перемешивать языком бесконечную материю штруделя и отдалять, отдалять неизбежные акты жевания и глотания ея.
Лучше всех штрудель пекла тетя Женя, Сашкина мама.
Когда она приступала, и первые запахи подымались со второго этажа на третий и к небу, Старик Болсуновский выходил посидеть на балкон, и Вера глухая, его дочка, в который раз спрашивала у тети Жени рецепт, а та ей кричала, пока не додумывалась пригласить Веру к себе.
Вера глухая пекла хорошо, но у нее штрудель отдавал постным маслом. У Рудички текло варенье и было недостаточно изюма. Циля и Бузя использовали позапрошлогодние орехи и не посыпали корицей, а у Фиры Ордамоновой штрудель съедали сами, и дети ее сами ходили принюхиваться на второй этаж, к Сашкиной двери.
Это было трудно, не пойти тогда к Сашке, и бабушка меня ругала, а когда была с тетей Женей “на ножах”, просто запрещала ходить “по хатам”, а к Сашке — категорически, но штрудель благоухал и манил, и было особенно обидно, когда Сашка, дожевывая, встречал на пороге и тут же шел гулять, не предложив ни кусочка.
Из масла кипящего,
Словно русалка,
Выходит пирог —
Он зажарен как палка.
Его нарезают
Хорошим кусочком,
И ставят обдуть,
Охладить ветерочком.
И пахнет из форточки
Неимоверно.
И возле двери
Проверяются нервы.
И кажется что?
Что наверх до соседей
Пахучее счастье
На цыпочках едет.
И старый, и малый
Заходят до кухни
И смотрят, как ползают
Бледные мухи,
И стонут, и плачут,
Схватившись за сердце,
Поверх полотенца,
Поверх полотенца.
Внутри же — вы помните,
Что по рецепту
Положено счастья
Четыре процента.
А больше — не надо,
Не гневайте Бога.
От лишнего счастья
Бывает изжога.