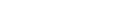Маринованные груши, или Пони в тачанке
О грушах, о маринованных грушах бабушка рассказывала с удовольствием.
Однажды, когда бабушка была совсем маленькая, помещица Жирнячка потребовала от своего управляющего, чтобы он привез детей на показ.
Бабушку и Веру одели в розовое и белоснежное платья с оборками, на головы надели бархатные шапочки, на ноги - белые чулочки и туфельки. Посадили в коляску («В большую или маленькую?” - спрашивал я, - “В большую”, - отвечала бабушка), и мы поехали. Вся улица оборачивалась! Приехали. Такой большой, как дворец, дом. Нас повели по комнатам и привели в залу. А там уже сидит помещица Жирнячка. Мы подошли к ней, сделали поклон, и она велела усадить нас на бархатные скамеечки... (“А помещица Жирнячка была толстая?” - перебивал я. Но этого вопроса бабушка уже не слышала, потому что замечталась, и продолжала) - ... на бархатные красные скамеечки и велела подать нам груши. И нам вынесли на тарелочках по груше с хвостиком. “Большие?” - спрашивал я, зная ответ. “Нет, - отвечала бабушка, - Громадные!” - И показывала пухлыми ручками, какие! Размером с мою голову. Бера! Маринованные! Сейчас таких нет. А вкус! Мед! - и у нее текли слюни по-настоящему, и у меня тоже.
“А еще дали?” - спрашивал я, хотя знал, и мне было неинтересно. И Соня вспоминала, что помещица велела подать еще по одной, и потом быстро их отправила, и больше она, бабушка, никогда в своей жизни таких груш не ела!
История была фантастическая. И не потому, что супергруши, такие, что ни в 2-х, ни в 3-х литровую банку не помещаются, в горлышко не проходят. А потому, что Софью Михайловну, Софочку, Сонюру, Соньку я не мог себе представить кисейной барышней и ангельским ребенком, делающим “книксен”.
Это был “огонь”.
Вот вам дореволюционная Полтава, тишайший городок. Тенистая улочка, особняк добропорядочного состоятельного еврея. У ворот маленькая разрисованная колясочка и пони. На крыльцо выходит маленькая девочка в розовом платьице с оборками, бархатной шапочке и золотых черевичках и садится в колясочку, и что же она делает дальше?
А дальше - она меняется в лице и лупит бедного пони и несется, стегая направо и налево, на шарахающихся мещан и крестьянок, и вопит на каждом перекрестке “Бей жидов - спасай Россию!” А-а?!
Вот у вас есть маленькая расписная колясочка и пони, и вы маленькая девочка, дочка состоятельного еврея, пусть выкреста, и вы выходите из дому в тишайшем городе Полтаве, выходите в розовом платьице с оборками, бархатной шапочке и золотых черевичках и садитесь в колясочку, и что вы делаете дальше?
Нет, вы, наверное, не стегаете этого пони и не несетесь на шарахающихся мещан и крестьянок, и не кричите на каждом перекрестке “Бей жидов - спасай Россию!”
- Ох, я была бандитка! - вспоминала не без удовольствия бабушка. - Меня вся улица боялась. Их всех сразу забирали («О! Она уже вышла!») - Я всех била. Ого! Меня только затронь! - раскрасневшись, грозила кому-то Сонька.
Боязливый и болезненный мальчик, я боготворил мою героическую бабушку за прогулки по крышам и босиком по снегу, за ворованные яйца, которые выпивала тут же и, выпросив у прохожих крестьянок ржавую селедку, тут же вместе с ними сгрызала ее, присев на крыльцо...
А еще за то, что в 1929 году, пятнадцатилетняя Сонечка вышла из дому и на углу Гоголя и Пушкинской столкнулась с худющим высоким парнем. Карандаши рассыпались... и через год родился мой дядя, а еще через год - моя мама.