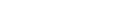Американская внучка
Над нами жила баба Хая с Нюськой, ее внучкой. Нюськина мама - покойная Ида - умерла, а про ее отца вообще мало что было известно. Так они жили вдвоем. Нуждались, конечно. Что такое была бабыхаина пенсия? Люди им как-то помогали, моя мама отдала Нюське свое старое пальто, а папа подарил офицерский планшет, но все равно они должны были сдавать угол и держали жиличку, которая играла на аккордеоне и отбивала ногой такт, и в доме прислушивались и проклинали ее вместе с ее аккордеоном.
Баба Хая была несчастная, но вредная старуха. Она не успевала еще сойти с лестницы на своих средневековых ножечках носками внутрь, как уже начинала возмущаться, и кого-то хаять, третировать...
Однажды она сцепилась с Тарановой и кричала ей:
- Что? Вавки в голове? Пей зелёнку!
А сама такое выдумывала - могла две стенки свести в одну. Особенно она приставала ко всем со своей Эстер.
Она всем рассказывала, будто бы у нее в Америке живет дочка, и что она такая богатая, и что муж у нее - миллионер, и он имеет фабрику стиральных машин, и у них дом, и у них то и у них сё...
Ну... Кто в это верил? Хочется человеку? Пусть, пусть говорит... И только Тараничиха ее пытала:
- А что же она не пришлет вам посылочку? (Тогда как раз разрешили).
Но баба Хая или делала вид, или не слышала. И этот тарановский вопрос долго оставался без ответа.
Как вдруг, ни с того ни с сего, она начинает во всеуслышание заявлять, что ее вызывали на переговоры (!), и Эстер уже едет сюда из Америки (!) с целым Вагоном Американских Вещей!
- Хорошо-хорошо! - говорили бабе Хае на это, - не волнуйтесь, ради бога.
И внимательно смотрели на Нюську, которая тоже опускала глаза.
Нюське к тому времени было лет четырнадцать или пятнадцать. Она была маленькая, типичная, с этими вечно спадающими чулками, никто ее в сущности не замечал.
Правда, баба Соня уже тогда её одобряла, она говорила: “Нюська такая... быстрая. Такая мышкоро-нышкоро! Хорошо!”
Но никто, конечно, не мог предположить даже, подумать...
Как вдруг - я не помню, это был апрель или май - к нам заходит Нюська и говорит:
- Тетя Соня! (Она называла бабушку “Тетя Соня”) Тетя Соня! Вот, телеграмму получили. От Эстер. И подает телеграмму, а там написано: “Приезжаю субботу тчк Вагон подарков еврейской общины тчк Эстер тчк”.
Это было как гром среди ясного неба!
Он разразился у нас и побежал по дворам, по Горького, самой длинной из известных мне тогда улиц, и по Жилянской, и по Саксаганской... и к вечеру в Городе уже знали, Кто приезжает в субботу на Центральный железнодорожный вокзал, и Что она привозит с собой для некоторых.
Из уха в ухо передавался и подробный текст телеграммы, и крылатая Нюськина фраза: “Хочется встретить тетечку, как люди. Поторжественней”.
А, между прочим, шёл 1956 год, мне было семь месяцев. И я помню все. И коляску, старую, без окошек, с видом на небо. И мусорник, из которого в январе уже пахло весной, а в мае - хлоркой, белоснежной, с тонкой линией нашатырного спирта.
В ту субботу я лежал в коляске, принюхиваясь и щурясь на майское солнце, когда Мама, не сделав мне агугусеньки-агу, промчалась мимо, как угорелая.
- Бронз Чичо с женой приезжает! - крикнула она бабушке - Будет кортежироваться! По Крещатику и мимо нас!
- Куда? - только и успела Софа.
Но мама уже бежала на улицу, навстречу нарастающему шуму толпы, и бабушка, возмущаясь: “Что там смотреть? Фырк - и всё?”— тоже вывезла меня из ворот.
Гул накатил и мы с соседями, с оказавшейся рядом Нюсей увидели длинную-предлинную импортную коляску с окошечками, белую и блестящую, как наша голландская печка.
В машине стоял бронзовый Чичо с вьющейся по нему тетей.
И, что любопытно, Чичо, как всякий, стерся, расплылся в моей памяти пятном рыбьего жира, а вот Тётя, тётечка эта вре¬залась раз и навсегда.
Она сияла, как солнце, она источала свет щедро, как ми¬лостыню, и бледное Нюськино личико отвечало ей неверным луноликим свечением.
- Красивая, гадюка! - донеслось восторженно из толпы.
Люди махали, я глядел, разинув рот, но и кортеж, и тётечку заслоняет баба Хая и бросается в глаза вата, торчащая из ее телогрейки, грязная, с остатками хлопковых коробочек, и я уже протянул к ней ручку, как и баба Хая, и всё ушло, уехало и стало затихать.
... Сон уловил меня и унес, и увидел я кухню, окутанную полумраком, и Яшуню с газетой «Известия» в руках:
- Инюрколегия разыскивает, - звучит его голос напевно, - Мусю Гринберга... – Сонюра! Это не Шурин ли муж?
- Нет, - отвечает Сонюра, углубившись в газету «Труд», - нет этого номера. - А по кухне кружатся, кружатся облигации трехпроцентного займа...
И тут из сумрака - изумрудною змейкой тётечка! – Ба! Да ведь это же Нюська! - и склонилась ко мне и шепчет: “Рано, Боброк, рано!” - и лучится, и змейкою юрк, юрк...
Сон прошел, и я ощутил покачивание в моей карете, которую везла Нюська, бабушка и баба Хая следовали за нами, и услышал, что вливаемся мы в праздничную колонну, в которой нас узнавали и здоровались.
- На какой путь, – спрашивали, - прибывает?
И слышали в ответ: “На первый”. И баба Хая тоже спрашивала: «На какой путь?», хотя именно ей и прислала письмо Эстер, и именно от Нюськи и узнали все: и куда, и когда, и еще про то, что “хочется встретить тётечку, как люди, поторжественней”.
- Поторжественней! - передавалось из уха в ухо. - Шутка ли, такой путь!
И на дурацкий бабыхаин вопрос отвечали с почтением:
- На первый перрон, тетя Хая!
И с недоумением добавляли: “На первый перрон”.
А удивляться было чему.
Баба Хая обогнала меня и пошла вперед, седая, косматая как солнце, почему-то в самой старой своей засмальцованной телогрейке. Она шла по перрону, всхлипывая, и я тоже, вдыхая прошпаленый железнодорожный воздух, начал сопеть, и заревел бы, и в рыданиях пропустил бы самую встречу, если бы Нюська не шепнула мне тихонько: “Рано, Боброк, рано”. Бледное личико ее осветилось, и она, пропуская толпу, бросившуюся через нашу голову к вагону, незаметно отстегнула чулок.
Эстер вышла из пульмана распахнутая, полногрудая и стала посреди семейства личных чемоданов, мешков и баулов.
Сначала за расфуфыренной толпой, где кое-кто даже потратился на цветы, она не увидела нас, но люди как-то сами собой расступились, и с торчащей с дыр телогрейки грязной ватой она увидела маму и девочку, Нюську(?), Идыну дочку(?), в одном спущенном чулке с необъяснимой в ее возрасте коляской.
-WAW! BAB! – закричала она! И мы — зарыдали хором! И Эстер пробует падать в обморок на чемоданы, и хаять ихнего бездушного бога, но некоторые уже поняли — есть Вагон! И поняли также, КТО его будет раздавать и продавать.
Так весь Вагон Американских Вещей достался бабе Хае, то есть и ей, и для раздачи остальным киевским евреям.
Вся улица Горького, самая длинная из известных мне тогда улиц, и улица Жилянская, и Саксаганская, и другие, — все шли к бабе Хае. Нюся составляла списки очередности, и Эстер, приезжавшая к ним из гостиницы, раздавала американские вещи, а баба Хая больше продавала.
Перепало и нам. Бабушка купила американский китайский чай в сундучке надписью “Сви-тач-ни” на американском языке (“Цветочный!” — понял я потом), и тальк “Роза” в такой(!) коробочке с запахом розы через тридцать лет.
Американские вещи, о которых Софа говорила, зажмурившись от удовольствия, действительно были замечательными.
Замочек, величиной с двухкопеечную монету или даже меньше, и к нему ключик меньше копейки (бабушка давала мне открыть, закрыть и забирала). А как манил маникюрный набор, спрятанный в одежной щетке, в кожаной ручке. Откроешь молнию по кругу, а внутри неизвестные блестящие штучки для маникюра с ручками из слоновой кости, и пилочка, и бархотка, овальная, мягенькая, мягчайшая, для полировки ногтей до ослепительности!
А открытки! С прозрачными окошками, со снегом, усыпанным серебром, с двигающимися глазами у котенка...
Они приходили из Америки еще долго, и после того, как Нюська вышла замуж и со всем барахлом переехала к мужу.
Баба Хая снова надела телогрейку, зашитую американскими иголками и нитками, и, получив очередную открытку, каждый раз спускалась к нам, чтобы мы увидели - какая красота!