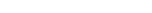Рассказы о Мариках
Марьяну Обездолину-Карабчивецкому посвящается…
1
Квартира оказалась коммунальной. Дверь, обитая дерматином, незапертой. Я вошел. Темный, загибающийся коридор с высоким, четырехметровым лепным потолком и таким же замытым, замученным половою тряпкой паркетом вывел меня на черный ход, а оттуда повел обратно, мимо тонких крашеных фанерных дверей, ванной с неустранимым запахом сырых вафельных полотенец, мимо туалета и кухни, обратно в сторону Большой Подвальной, куда на мой вопрос указывали курившие в коридоре, тоже оказавшиеся гостями. Они стряхивали пепел в маленькие, свернутые из газеты кулечки, имеющие хорошее детское название, которое я не мог вспомнить, держали их высоко, как бумажные рюмочки, словно говорили тост.
Я вошел в длинную, занятую накрытым столом комнату, дальний конец которого упирался в балконную дверь, и поскольку еще не садились, протиснулся на маленький балкон, где тоже курили, стряхивая пепел в бедную землю рассохшегося ящика. Мне кивнули, как своему, продолжая разговор. Балкон действительно выходил на Большую Подвальную. Я немного поглядел сверху, постоял рядом и пошел было обратно, не узнавая никого и размышляя над тем, поставить ли на стол водку, и решил пока не ставить. В двери, выходящей в коридор, меня спросили насчет Марьяна, и я кивнул, хотя не был уверен.
После, когда у меня появился опыт проводов, я спокойнее относился к обилию незнакомых, приглашенных не на первый, а скажем, на третий день, поскольку за один раз не обходилось. Тогда же не знал и маялся, дожидаясь Марка, и наконец он пошел по коридору, собирая за собой гостей, оказавшихся в основном слушателями курсов, на которых он преподавал иврит. Это было разумно – сохранить связи, а возможно, и учеников на будущее, известное израильское будущее, о котором, а вернее о проблемах переезда шел разговор за столом. Вокруг обсуждали перевод денег, контейнеры и документы, перечни разрешенных вещей и еще многое такое, что было мне неизвестно и не нужно.
Дежурный тост оказался дежурным, а стихи, написанные на случай, – неуместными; я и не читал. Разговор не утихал, ели и пили мало, и лишь сосед напротив - он тоже не участвовал в общем разговоре, - не забывал о закуске.
- Рыба? Это рыба? – спросил он, указывая на судок, и знаком попросил передать. Я передал и от нечего делать, стал наблюдать, как он ест, серьезно и обстоятельно, обчмокивая и обсасывая каждую косточку и хрящик, в точности как мой дедушка Яша, увлекаясь, погружаясь в замечательный глубинный вкус заливной рыбы, надцеживая на вилку круги морковочки и бурачка прямо уже из судочка, который оставил рядом, и бережно перенося своим ножом и вилкой четвертый кусок на свою тарелку, полную уже несъедобных частей.
Один — глаза.
Молчит — глаза.
И говорит —
а всё — глаза —
Глядят — куда?
Наискосок.
— Когда?
— Три дня
И вечерок.
А тот, другой, — он ест и ест.
И нипочем ему отъезд.
Я глядел на опущенную над тарелкой голову, на большой с блестящими залысинами лоб, покрытый капельками пота, и понимал, что пришел не зря, что возможно и мне когда-нибудь придется к нему, обустроившемуся в Израиле, обратиться, и он, отрывая голову от тарелки, наконец вспомнит, вежливо отрыгнется и, надеюсь, поможет.
Фунтики! – конечно! – они назывались фунтики, эти кулечки…
На прощание я пожал несколько рук и пожелал счастливой дороги.
2
Марьян и Аркадий! Куда вы? Куда?
Зачем вам чужие, Марьян, города?
А вы-то хоть поняли, ради
Чего вам на Запад, Аркадий?
Согласен, опасен нитрат и нуклид.
Скудна и отравлена пища.
И СПИД наступает. И антисемит.
Разруха дошла до кладбища.
Но Город, как видите, все же стоит,
Хоть будущим не обеспечен.
И вялотекуще, но воды струит
К нему обращенная речка.
А есть ли в столицах тех западных стран
Такой вот Аркадий? Такой вот Марьян?!
А та Миссисипи такая ли,
Как эта, какую оставили?
Нет! Этого там ничего не найти.
Не купишь за доллары это!
И сколько по видику ты не крути
Мое пионерское лето…
Не слушай, Аркадий! Не думай, Марьян!
Не надо, ребята, бояться!
Что, в сущности, жизнь ваша, Марик, Аркан, –
В сравненье с идеей остаться…
Однако, несмотря на пафос этого, можно сказать - светловского – призыва, – они уехали.
А в 1992 в Израину подался и я - на разведку.
Жить стало трудно. В магазинах пусто. Детский гороховый суп, приносимый женой из детсада, мне, доценту, в глотку не лез. Чернобыль. И Циля прислала вызов.
Поехал присмотреться, на 40 дней, при случае подработать. С собой имел 200 долларов и адреса друзей, маминых и бабушкиных подруг.
Записи старался вести ежедневно. Сейчас перечел – одни шекели1) звенят. Решил было выкинуть об этом – ничего не осталось. А перечел еще раз – вроде и не только, что-то еще…
3
Что бросается сразу - не чужое. В самолете несколько знакомых лиц. Фрида Самойловна Борщик – заслуженный учитель украинского языка и литературы. Летит к сыну. Русский повсюду. Наши дикторы. В Бат-Яме чистоту навели олимы (переселенцы). Трудно поверить - наши - чистоту! На пляже - русский. Девочка с котом на поводке русская. И мужчина с плейером, но читающий книгу, тоже (книга – «Красное колесо»). Русские газеты. Друзья.
Не чужое, но - другое. Другое - это таможня в Бен-Гурионе. Вместо часа - 3 минуты. По змеевику приехали сумки. Мы кладем на тележки (дают бесплатно) и везем. Другое - жара. Ватная. Липкая. Автобус с мазганом (кондиционер) - 4 шекеля. Другая компания победнее - без мазгана - 2 шекеля. Водитель проверяет автобус - не оставил ли кто вещи (бомбы?). К израильскому солдату (пилотка под погоном) приехала мама из России. Они ехали в обнимку. Девушка-солдат. Или что это - две нашивки? Вертолет над морем. Ракеты как НЛО. А утром по пляжу человек с миноискателем. Хотя, по-моему, он искал монеты. И находил.
Как все написать по порядку? Ребята - москвич и минчанин:
- Ну, как там у вас? Звонили. Сказали: ужасно?
4
Иду на пляж. 6.00, утро, развозят овощи по магазинам. Витрины рябят. Я туда не хочу, а они манят, манят. Фрукты – 1-3 шекеля (1шек = 2 грн), туфли – 45-100, костюм – 230-400, автомобиль – 25000-50000, квартира – 200-400 тыс. шек… Если зарплата 2-3 штуки в месяц плюс корзина плюс ссуда, тогда… А если 1000-1200?..
На пляже ко мне подошел Виктор – инвалид второй группы из Могилева-Подольского. Разговорились.
- В Америке жить легче, но здесь – красивее…
Что он хотел сказать? А когда я спросил, надо ли ехать?
- Нет! Сын вкалывает тяжело. В Америке лучше. Там нет пенсии, но можно пойти за специальное пособие учить английский – 500 долла?ров (он делал ударение на а) в месяц. Они делятся, дают учителю 100 и только отмечаются, приходят, он ставит точку, вы понимаете? И все! 400 долла?ров – это хорошие деньги. А здесь все обманывают, каждый хочет обмануть. Но у вас – кошмар. Зачем, я не понимаю… Зачем они?… Я помню…
5
«Как делать средиземноморский песок.
Возьми нашего песку довольно. Просей на мелко сито, дабы наш мусор – окурки, косточки, газеты, пробки от бутылок, смятые пачки сигаретные – изъять. В сей просеянный и промытый песок добавь мелкотолченого черного перцу – для рябости. Взрыхли специальным трактором с водителем с плейером. Дай постоять у моря, чтоб он пропитался соленым воздухом (почему пахнет дрожжами? Пена? Пиво?), шумом морским. Всыпь ихнего мусору – пляжные туфли (горкой), банки от пива, зажигалки, бутылки, деньги…
Еще раз перемешай и убери то, что сверху.
Укрась урнами (полиэтиленовый мешок в проволочном каркасе), пальмами (да! пальмами!), отелем «Сантон», нашими мамами с детьми («Ю-ля! Ю-у-ля-а!»). И солнцем.
И еще водорослями, и камушками, и крупными ракушками, и ивритским говором, и морем с длинными-длинными волнами.
И, может быть, немного добавь меня, Господи?»
6
Исход
Та суета сытнее и правдивей,
И перспектива будет у детей.
Где Родина?! Когда и Лева с Ривой,
И Коля, и Давид, и Моисей.
Что мне Сырец, когда уехал Алик?
Мне не к кому заехать на Сырце,
Сырец мой дожидается в Италии.
И каждый день гуляет во дворце.
Везу Святошино. Я каждую просеку
Отдельно увернул, упаковал.
И желудей, так нужных человеку,
На весь мой век оставшийся набрал.
Киев обезевреел. Обнажились корни ЛИТО, привял КСП, правда, появились служки в лапсердаках, но говорят они на ломаном русском, а думают по-английски.
Конечно, Паниковский на Прорезной, как дома.
И Шолом-Алейхем на Бессарабке вписался.
Приподняв шляпу, глядит он на рынок, а там уже никого из куриного ряда – ни Бузи, ни Мохначички… И то же на Житнем, и на Сенном… Нет, он не приветствует – прощается...
И другой Шолом-Алейхем, тот, что голову повесил горельефом на Саксаганского, кивает, кивает, молится, сетуя и соглашаясь с врачами и музыкантами, часовщиками и снабженцами, учителями и шахматистами, и конечно, с инженерами-технологами, инженерами-конструкторами, инженерами-строителями, инженерами… Кивает, кивает… Шма Исроэл…
Говорят, в 1913 году в Киеве проживало 32% русских, 32% украинцев и 32% евреев.
Было у Тризуба – три зуба, осталось – два.
У кого болит голова?
Было у мамы три сына – осталось двое.
Двое – не трое.
Не перекреститься.
И революция может не получиться,
Если в дуле нет еврейского пальца…
Захожу в шинок – вижу китайца.
Захожу в синагогу – а там в лапсердаке,
На ломаном англо-русском языке…
Двое – не трое. И двойня – не Троица.
Отрезали от Библии Ветхий завет –
У Христа ни бабушки, ни дедушки нет.
Кто внучика научит любови?
Той, местечковой, без меча и крови…
Было у мамы три сына. Два тут,
А Изя - капут.
(Сейчас, когда есть скайп, и визы отменили, как-то легче. И там обжились, устроились. А тогда, в начале девяностых, вы же помните, болело сильнее - прощались навсегда, резали по-живому, и тоска была острее, нервенней оттого, что и сам был на перепутье, не мог решить, мучился.)
Зачем я пишу об этом? Надеясь вернуть? Да, я надеялся, поживут - и вернутся. И верно, сейчас приезжают чаще. Марина – к сестре. И Андрей – копать картошку теще. Но не вернулся никто, кроме Севы. И как его считать, если за пособием он все равно ездит в Германию?
Мне говорят:
- Они сами решали. Чего ты? Это же совсем не та эмиграция, что в Гражданскую. Чего убиваться?!
- Сами? Не-ет.
Я, в отличие от Вертинского, знаю, «зачем и кому это нужно». Это измы, сволочи. Коммунизмова, антисемитизмова и сионизмова работа. Они лишили меня! Они виноваты, они отняли…
И вы хотите, чтобы я простил?!
В подарок я вез картины. Сторговался в переходе с художником, дал ему адреса, по которым, увы, не найти голоса, и за неделю он набросал дюжину пастелей, вечерних, темных: Дом на Межигорской, Дом на Пушкинской, Дом на Беличанской…
Сутулый фонарь на ветру, синий отблеск рельсов на повороте, поземка, лунные полосы в проходном дворе - и домашнее, теплое, кухонное, подающее неуютному уличному миру освещенный кусочек, в котором хочется постоять, глядя на близкий бабушкин силуэт за занавеской. Банальный контраст, а все же эти работы казались мне необходимо-нужными там, в Израиле, чтобы люди вспомнили свой дом, чтобы взгрустнулось. И даже, может быть, когда-нибудь кто-то не выдержит и захочет вернуться. Я же вернулся, уезжал из Киева в Ленинград, был в браке полгода – и вернулся сюда, под бабушкино окно.
Работы мне понравились. Часть из них я пожалел, оставил себе. А часть – повез.
7
В банке Ата-олим, где наши обслуживаются, работает Леночка, дальняя родственница из Кировограда. Помнит тетю Дору, дядю Сему.
- Ну, как?
- Нет, это не то.
- А помощь?
- Хорошо пенсионерам, есть пособие на жилье. Пенсии на питание хватает, а на аренду жилья - пособие. Договоры на год. Потом пересматриваются. Как правило, цена немного набавляется. А, нет – так нет, до свиданья. Трехкомнатная – 450-550 долл. И за свет, газ, воду – еще 150 –250 шекелей. Остальным надо работать. Здесь говорят: «Ты уже устроился или еще работаешь?» Или: «К сожалению, в Израиле работа есть». Работа есть, но трудно. На юге легче, на севере хуже. Уборка пляжа – 3-4 шекеля в час, стройка – 5-6 шекелей, ночная смена в пекарне – 8-9. У меня - слава богу, а Леня (муж) – на ночной - развозит газеты. Он был зубной техник, хороший техник, а здесь никак…
После обеда едем на промку – по магазинам при предприятиях. Рыбный при рыбкомбинате. Мороженое на молзаводе и т.д. На 20% дешевле. Мороженое 16 разновидностей. Хозяин – киевлянин. Делает торт «Киевский». Полкило мороженого – 5-7 шекелей. Вкусно. А рыба – разная. Селедка так и тает. Видов 20. И рыбой не пахнет. Пельмени сибирские, фрикадельки, колбасы, салаты всякие – одуреваешь. И недорого. Думаю, что уровень жизни здесь выше раза в три. Или в 10?
Вечер. Я сижу у моря и пишу стихи. Солнце заходит быстро. Становится прохладно. Берег в огнях. Я посредине мира у Средиземного.
Я придумал себе «легенду» – обсуждаю вопрос об отъезде. Сопоставляю плюсы и минусы. Советуюсь. Вживаюсь. Но ведь я никуда не поеду. Господи, зачем я это делаю?! А может быть? Но кто я здесь? А там!? Дома? Ностальгия на второй день?
8
Сегодня меня везут в Хайфу. А утром – пляж, море, зарядка.
Адвокат бежит трусцой.
Он не бедный, но босой.
Впереди его живот.
Он трясется и дрожит.
Он боится адвоката.
Адвокат за ним бежит.
Адвокат к нему прилип.
Адвокат к нему пристал.
Не уйти от адвоката.
Влип. И вот она - расплата.
Адвокат, как прокурор,
Оглашает приговор:
- Если будешь ты расти,
Если будешь ты жиреть,
Буду я тебя трясти!
Буду я тебя потеть!
И хотя ты мне родня,
Пирожком меня не купишь!
Я скручу тебя как кукиш!
Слышишь, подлая свинья?!
Адвокат бежит трусцой
По песочку вдоль залива.
И рифмуется с мацой
Тетибебина подливка.
Впереди его живот.
Он играет и бежит.
Он имеет адвоката.
Адвокат за ним дрожит.
«Бат-Ям» в переводе означает «Клуб советских пенсионеров». Им хорошо. Вкусно покушать. Покупаться в теплом море. Пойти вечером на танцы. И танцевать, плясать вместе с молодежью под наши советские песни! А можно просто посидеть. Они садятся вдоль набережной - бесконечная цепь белых пластиковых стульев - и провожают закат…
Циля - женщина общительная. В прошлом врач-фтизиатр, она хорошо понимает пользу свежего морского воздуха, зарядки, танцев, хорошего полноценного питания.
- Для пенсионеров - здесь рай. Я участвую во всем. А возьмите телевизор. «Санта-Барбара»? Пожалуйста. И «Марианна». И «Просто Мария»! А есть еще «Кристал» - на испанском канале с титрами на иврите.
Старые глаза не успевают. И далеко не все знают испанский и иврит. «Но к нам на скамеечке в семь так примерно утра, - объясняет Циля, - приходит Владимир Ильич, Володя. Так и смотрим – он расскажет ту серию, что вчера, – и все понятно!»
9
Я увидел его на остановке автобуса, издалека. Пока добежал – кричать почему-то не решился – автобус отошел. Разминулись.
А это был Карабчивецкий…
Мы разминулись на углу
Советской и Антисоветской,
И я сказать вам не могу,
Как я расстроился и плакал,
Но так чтоб не видал никто,
А он промчался как собака
В своем ратиновом пальто.
Его добротный мелкий рубчик
Сводил мечты мои на нет,
И я, зажав в кармане рубчик,
Глядел, глядел ему вослед…
С ведром и в шлепанцах на босу
На двор я вышел покурить
И, поискавши папиросу,
Я попросился прикурить…
А это был – Карабчивецкий!
И он не пожалел огня!
Такой нездешний, несоветский -
Сверкнул и – газовый, немецкий -
Прошел… и не узнал меня.
И я не знал. Я было руку
Простер. Но между, как назло,
Непроницаемое к звуку
Пальто ратиново легло.
Оно богато и красиво
Виляло задом вдалеке,
И рупь, заначеный на пиво,
Измято дергался в руке…
Стихотворение лживо. Я не курю, и уж тем более рубчик не заначиваю, и с мусорным ведром на босу - не бомжую, хотя и остался, а Марик – тоже, хотя и уехал, ратиновым на мизерный литературный грант не обзавелся, подметает телестудию или – заворачивает, а может, сторожит детей в детском саду…
Знающие нас не поверят и тому, что такая невстреча могла иметь место, что я или он промелькнули, не бросившись на встречу друг к другу. Я не думаю, чтоб Марик забыл, я же помню…
Хотя, если это – драматургический ход, если так было задумано с самого начала, - высветить факт расширяющейся от времени трещины, когда я на одном, а он на другом, и новая жизнь отбирает у прошлого конверты и марки?.. Не знаю, может, обознался?
10
В Хайфу меня везли Саша и Власта – молодожены, москвичи – по пути, ехали к друзьям.
- Здесь все козлы. Тупость. Инженер – ругательное слово. Я предложил улучшить технологию – так меня месяц доставали.
Взяли две машканты (ссуды) – купили машину. В долгах, как в шелках. Родители по обеим сторонам – в Москве. Ехать не хотят. А принимать иудейство - Власта не хочет:
- Зачем эти проблемы?
- А дети, в школе заклюют.
- Ну, не передергивай!
- Ты забыла Ивановых?!
- Ну и что? А если я не хочу! Не хочу!
- За-хо-чешь!
Они всю дорогу пикировались. Ах, ты, молодость!
11
Молодость... Если уж писать о Марьяне, то следует начинать с 1978-го, с того предыдущего, киевского, в котором вырос и которое привез с собой жить.
Спускаясь в подвал, мы столкнулись. Навстречу с полной ковшовой лопатой строительного мусора - битой сухой штукатурки, обрывков обоев и пропитанных бустилатом газет, щепочек и стекла в побелке и краске - в облаке белой строительной пыли, запорошившей и пропитавшей волосы и ресницы, тельняшку и башмаки, выбежал, разметав и не глядя на нас, – Марик, типичный носатый астероид, влетевший в плотные слои солнечного осеннего дня. А мы, проводив ошеломившего, спустились и увидели то, что хотели: хореографических девушек в купальниках, - и вошли.
- Он, дэ, труа, - командовала явная француженка («Из Сорбонны!» – закричал с порожней лопатой - Марик), а по рельсам, проведенным из кухни в столовую, уже наезжал кинооператор, совершенно, впрочем, не отвлекая стрекотанием секцию «Исследование формы («В абстрактной живописи!» – Марк обратно, с полной лопатой), ведомую дроздобородым польским меньшевиком; в спальне хохотал театр миниатюр, пока что в единственном лице режиссера, в ванную вносились носилки раствора, мелькали слайды и сварка, оказавшаяся лазерной – уникальной по тем временам - светомузыкой.
Это был «Рух» – первый в щербицке неформальный молодежный клуб, в котором все было первое: и иностранцы, и юморина с не военным парадом, и фильмы из посольств, а главное – дух (хотел сказать - перестройки, нет, тогда еще рано) предчувствия, предвосхищения.
Рассказывают, когда из Москвы, из физтеха, известного вольнодумством, Федоринчик привез Программу Молодежного Движения, когда только приоткрыли папочку – сумерки в комнате мгновенно сгустились, и на лицах собравшихся, словно из чюрленисовской «Сказки королей», – побежали экранные отсветы.
Белые, синие, яркие, золотые… Блики гитарных дек, колонок, салонов, софитов, сервизов из «ОТТО», глянцевых плейбоевых попок, ляжек, стоек, стаканов и столиков, виски с тоником, томиков Цветаевой и Мандельштама, гомиков, поющих с экрана, буфетных слоников, устремленных в Париж…
О-о!… А ты говоришь!…
Ах, что это были за планы!
Надо знать тогдашнюю киевскую жизнь, жизнь плешивого советского захолустья, когда за прическу снимали стипендию, а за анекдот могли и отчислить, и выгнать из города. Надо было жить в серости и скудости, и cчитать эту серость и скудость нормальной, даже лучше чем в других (кроме Москвы) городах. Надо было родиться и вырасти, а возможно - и умереть при социализме, чтобы понять, как флуоресцировали федоринчиковы сказки и возбуждали, пьянили.
Но самое удивительное – все задуманное сбылось! В том же 1978. Все проекты!
Пока не стали писать соседи, и «Советская культура» (прости, Господи, журналистку Аллу Босарт) не зачеркнула «Рух» пасквильной статейкой. Дом пошел на снос. Нового помещения не дали. И народ рассеялся по «Веселкам» и «Золотым рыбкам», ЛИТО и КСП, сохраняя в душе сухую строительную пыль покоренного, как Пик коммунизма, полуподвала…
Марик был из тех покорителей, родившихся от того света. И куда бы с тех пор его не занесло – в расклейщики афиш или тамады, сторожа или на «скорую помощь»... Впрочем, почему «был»?
У афишного щита
Оборвалась суета.
«Лир» в рулоне. Цирк в рулоне.
Солнце желтое на фоне.
Не работа — красота.
Шевеля концами строк —
Полубомж и полубог.
Он поэт, а не расклейщик,
Он по улицам Гуляльщик,
Шевелильщик и Слагальщик.
Ремесло — ко слогу слог.
— Кто идет? — С ведром и торбой.
Это наш верблюд негорбый,
Это — гордый наш Поэт.
Жизнь проходит. Сорок лет.
Сорок семь на самом деле.
Сорок осеней и семь.
Он уедет насовсем.
Осень. Солнце на щите.
Мир пятнист. Слова не те.
12
Кроме 100 долларов моих? у меня сотня мамина и еще три баночки консервов. Но их я пока не трогаю. Это – НЗ. Трачу свою сотню – на сорок дней по два с полтиной в день – это около 10 шекелей. Учитывая, что меня кормят мамины подруги, проблем с деньгами нет. Только транспорт, тут – либо пешком, либо трэмпом. А ту сотню, что мама дала, я хочу вообще не трогать, привезти обратно. Что я безрукий, в конце концов. Тем более, если все-таки ехать, надо быть готовым ко всему, к любой работе. А как ты хотел...
Как идти в маафию (пекарню) Давидовера нам нарисовал Гиля, сосед, 48, в коньках и в шляпе, из тех, кто не приобрел здесь гордого, независимого вида. Русские.
- Это в промзоне, на промке.
И мы пошли, ехать дорого – 2 шекеля.
Промзона. Грязно, разбитые автомобили. За заборами чисто, а вокруг – мусор. Людей нет – кончается шабат и до захода солнца работать грех.
Ждать нужно у ворот. Собирается таких довольно много. Но состав, говорят, уже подобран. По звонкам. Выходит араб, отбирает. Это нам рассказал паренек из Ташкента. Ему удалось зимой поработать: за 3 дня – 260 шекелей. Сказал гордо – у олимов собственная гордость. И это нормально. В этот раз не взяли – возьмут в другой. Почему я так воспринимаю? Искать работу – это норма. И терять – норма. И я обязательно доберусь до этой пекарни, не сегодня, так завтра. Хотя документы у меня без права работы по найму, и я могу не получить своих денег.
На обратном пути встретили столяра. В мастерской. Спрашивали дорогу. Ему 45 – ватик, то есть здесь уже давно, почти сорок лет. Из Самбора. Жена – олимка, взял с ребенком, бросив своих. Обожает.
- Надо ехать. Сейчас будет лучше. Новое правительство заморозило деньги, что выбрасывались для застройки территорий. У вас все горит. Будет взрыв. Не жди. Здесь будешь работать – будешь жить. Я начал в 45 – все оставил первой жене и детям. Не думай. Работа есть. Приезжай. (У него хорошее лицо.)
И Гиля вкалывает. Стал – половина. «У них есть цель – купить квартиру». А у меня? Есть цель?
13
Марика, представлявшегося – Марьян, в отличие от Марика Рыжего (он теперь, кажется, в Нью–Йорке, или – в Ньюарке?), называли уважительно – Белый, хотя белым, блондином он был не всегда, и большая нероновская лысина его предшествовала, кажется, смоляным патлам, длинным, под хвостик с резинкой, впоследствии резко обкорнанным под ежик. Я никогда не жаловался на память, а сейчас я не то что о цвете глаз – в конце концов, для этой нации важнее не цвет, а форма, прищур, – я не уверен в росте, в возрасте! Хотя пол сомнений все же не вызывает.
Очевидно, свойственная этой нации природная гибкость, способность к мимикрии, конкурируют с моей блестящей в прошлом памятью, и далее я буду писать только о том, в чем уверен на все сто, о типичном.
Итак - Марк был нагл, застенчив, бесцеремонен (входя в незнакомый дом, он, ни слова не говоря, прямо направлялся в туалет, а затем, разувшись, то есть вынув из запыленных футляров крупные, словно оклеенные носками ноги, садился на всегдашний раскладной стульчик и разминал пальцы, или ложился на диван, или просто на пол, и слушал не перебивая. А уходил вдруг, не прощаясь, без предупреждения). Самовлюблен, но ироничен. Инженер. Старше меня лет на 10 (имеется ввиду – не по возрасту, а по жизни). Красив типичной рябой и веснущатой носатой красотой. Неспортивен. Эрудит, языки, писал короткие юмористические штучки, стихи и письма президентам...
Это было время, когда одни по традиции выбирали карьеру, а другие – душевную свободу, и Марьян – будущий инженер-сантехник, одуревая в своем вузе, уже готовил себя к работе то ли экскурсовода, то ли каменщика, а затем – по логике деклассирования – к поприщу расклейщика афиш и наконец - к званию безработного студента Литинститута, автора убойных фраз, анекдотов, реприз, миниатюр.
- Дома, - сообщал он, – мне душно, меня окружают старые еврейские родители. Отец кричит: «он бросит учебу и я прокляну его, как Дали», а мама: «женится, даст бог, перебесится, я уже согласна на русскую».
Женатый сантехних... Смерть. Гроб. Саркофаг под тяжелой плитой. Здесь – в Полуподвале – я дышу, я оживаю. Мне хочется летать, соблазнять, декламировать, - пританцовывал за француженкой Марк, - петушок, женишок, корешок, арт-и-шок...
14
Центр Хайфы. Отель «Панорама» на вершине. Виллы адвокатов и дантистов богатейшие. И отели, отели.
Швейцары не гонят. Зашел во внутренний двор – белые столики на ярко-зеленой, пушистой, не вытоптанной траве. Море. И никого. А, нет – за сеткой в соседнем ресторане – бассейн – ой, какой голубой! - и столики вокруг под навесами.
Зашел в ювелирный. Бриллиантовое кольцо. За 70 долларов. Мне выложили и то и это. Но мне не подошло. Мне бы за 3-4, шекеля. Но этого я не говорил. «Хэлло! Хэлло! Заходите к нам еще!!» Знали бы кого они приглашают.
В торговом центре лифт опускался в бассейн.
Роботы, так здесь называют трансформеры, - очень большие. Лазерный пистолет превращается в танк, танк – в фотокамеру, а она - в робота. 48 шекелей. Рейнджер – солдат-наемник с говорящей рацией, – нажмешь на красную кнопку – мужской голос, нажмешь на зеленую – женский. 30 шекелей. Куплю малому или нет? Интересно, до какой же степени я жлоб?
Проголодался – пошел в Мак (Макдональдс) – перекусил (как легко пишется!) за 15 шекелей (больше 3 долларов, почти 4, но я вчера ничего не тратил). Как выдавить из себя раба копейки? Я же заработал эти деньги! Я трудился, а жлоб! (Подсчитал: осталось 73 доллара на 35 дней).
Парк. У меня проверили сумку при входе. Нет ли бомбы. Но вежливо. Полиция в белых (полями вверх) морских шапочках. Красиво. Много английской речи. Эстрада. Перед ней с естественным подъемом пригорок. Сажусь на траву, нет – на какую-то высохшую циновочную подстилку. Картина Сёра. Рядом – парочка, и он водит пальцем по ее плечу. Им хорошо. Кто прилег, кто прислонился к стволу. Старик пришел со своим стульчиком.
Балет. Кажется, по Лорке. Я увлекся. Господи, почему здесь так хорошо? Девчонки здорово сбацали свадебный еврейский танец. И лирика. Где она, лирика? Господи. «И может быть, на мой закат печальный мелькнет любовь...» Человек в ожидании счастья. Господи! Что с нами? В поте лица хлеб свой насущный...
Лирика. Вдохновенный балет. Хайфа в огнях. Золотая.
Ночь. Я иду и не боюсь. У меня нет страха, Господи.
15
Волны здесь длинные и крепкие... Валы...
Они выгребают подальше, наваливаясь грудью на доску, и там – раз-два-три сильных гребка – ловят волну – и, вскочив на серф, – скользят к берегу – черные, худые, крикливые.
Детям все удается лучше. Я сколько ни пробовал… А они – и иврит, и компьютер…
Вот только Тору переписывать – здесь особый человек нужен - сойфер, савланутый (от савланут – слова, известного каждому олиму) по полной программе…
1
Серфер - черен, белозуб.
Сойфер - вздорен, вислогуб.
Серфер - молод и удал.
Сойфер - все уже видал.
Серфер - скачет на волне.
Сойфер - плачет в тишине.
Серфер - просит фотографию.
Сойфер - знает каллиграфию.
2
Катят мальчиков валы,
Ближе, ближе. В воду, в воду –
Нет достойней кабалы
Переписывать по году.
3
«Макнет в пучину черную!»
«Добудет каплю гнусную!»
«Рисует букву вздорную!»
«Не русскую! Не русскую!»
4
Второй попытки не дано.
Прилежно действует рука.
Не видит мальчик – старика.
Прикрыто шторкою окно.
О том, как Надя сдавала гиюр (принятие иудейства).
«Вы знаете, дети не могли заходить в туалет. Понимаете, они, изральские, подсматривают и дразнят. А у нее мальчики. Ну, вы понимаете. Надо сделать обрезание. А она с Полтавы, русская. Муж еврей, а она русская. Ей надо гиюр. А там очень, очень трудно сдать. Так пошла она к одной благочестивой, сабре, верующей, и та согласилась ее учить, а взамен, чтобы она убирала ее квартиру. (Ой, там такая грязь, по 10-12 детей, у всех аденоиды, все в очках, лица! Разве это детство, эти пейсы, эти длинные черные юбки...) В общем, так у нее ушло месяц или полтора. И она пошла сдавать. Заходит. Сидят три старика. А у нее внешность, ну, извините, типичная русская. Так они ей сказали: «Вы – гиюр?! Вы хотите быть юд? У вас же нет ничего еврейского!» И выгнали, не задав ни единого вопроса. Боже, как она плакала. Правда, мальчик, старший, подошел и сказал: «Ничего, мама». Вот, а вы говорите...»
16
В центре Хайфы - на ХаКармеле, на горе - в домах ветерок и прохлада, а в крайотах (районах) – жарко, душно. Мира Семеновна и Наум Лазаревич давно на пенсии, живут в Крайот Хаим (Наум Лазаревич картавит, произносит: «киръет»).
Они бы и горя не знали, если бы не Лилька. Она не замужем, не работает, кричит, что больная – она-таки не видит в сумерках, – но вы понимаете…
Утро. Иду на зарядку на стадион, где заодно могу помыться под краном несчетчиковой водой. Иду вдоль небольшого канала, в котором живут крабы, нутрии и черепахи. Черные шмели (черножопики) не гудят и делают свое дело тихо. Справа за заборами очень разные дворы. Вот богатый: деревянная дачная мебель, пластиковый бассейн 3 на 3, пальмы в кадках… И бедный – собрана всякая дрянь. Вот – курятник с курями, а это - павлинник с павлином. А вот и бесплатная вода.
- А машканты – это ого! Это не так просто отдавать. – (прислушиваюсь к старикам в очереди.) – Она взяла и послала дочку учиться. То ли в Англию, то ли куда? Раз не заплатила – семь процентов - так они приехали и стали выносить мебель. Она подошла к окошку и шагнула вниз. четвертый этаж… Обещают три процента. Это другое дело, это можно жить…
Черепаха неслышно идет в глубину.
И бросается нутрия всей головой.
И шмели, не жужжа, отдаются тому,
Что у нас называют работой дурной.
И дерутся худые, как боги, коты.
И пугает из норки испуганный краб.
И купить, улыбаясь, живые цветы
Приглашает нас не с территорий араб.
8.00. Солнце уже жарит. Вот почему краснеют гранаты до черноты, и апельсины (они растут на деревьях!) падают и превращаются в жесткие теннисные мячики, пахнущие прелым листом.
Сегодня будет жаркий день. Надо пить и обливаться водой. И сидеть в тени. Жарко. Жарко в киръётах. И в Бялике, и в Ата. И в Киръет-Хаиме, и в Киръет-Моцкине. Конечно, в Хайфе, на ХаКармеле легче. Но там квартиры дороже. Нам жить в киръетах…
Словно потный ватик1 наплывает жара.
И под лампочкой вяло гудит миштара2.
И машканта3 пищит в эту долгую ночь.
И гаранты звонят, не имея помочь.
Из динамика вяло течет Авода4.
На весы, где на чашках - беда и беда.
И весов, как часов, утомителен ход.
Едиот - Ахронот. Едиот - Ахронот5.
Я имею запей и имею похав.
Но засунут как подлая шавка в рукав.
Не в подмышку, а в задницу, в липкий крайот6.
Идиот Ахронот? Идиот Ахронот.
«Рега!7 Рега!» Но неудержима Река.
В покрасневшие веки досыплет песка.
И, наверное, надо кончать балаган.
То есть плюнуть на все. И... занять на мазган8.
Вечером Лилька повела меня на дискотеку. Нас вез Ави, ватик, двое детей. Он – хавер Дианки. Он бедный. Но у нее лучше нет. Она надеется. Он сказал: «Там видно будет». Он хороший, добрый. Но бедный. Зачем ей такой? Она, конечно, ищет. Но она толстая, хотя блондинка. Ей 32. А ты ей дашь? Я дал больше. Когда ей было трудно (у нее сын) – она подрабатывала. Здесь постоянно привлекают. 100-150 шекелей в час. (- А я на столбах видел: «Русский массаж – 6 шекелей в час»? - Дак это ж совсем уродки!) Отмахала с каким-нибудь марокканцем и имеешь свои 150. А если красивая (Лилька явно намекала на себя) – то и 200. Долларов! У меня подружка – 20 тыс. шекелей в месяц. Она на все плюнула. Пошло оно все! А уборщицей – 4-5 шекелей в час. А пойдешь мельцером (официантка), балабайт (хозяин) скажет: «Я тебя хочу». А не дашь – как у него работать?…
Вход на дискотеку – 15-20 шекелей. В центре танцплощадка, вокруг столики. Диск-жокей. Музыка непрерывно. Танцуют непрерывно. Пьяных нет. Мурла нет. Пиво с маслинами. Соленые орешки. Бальная пара. Танец живота.
– Смотри, как мужики балдеют!…
17
Сваха в трамвае
— Мужчина! — вы весь у каком-то пуху.
А ну, повернитесь, я вас отряхну.
Приличный костюмчик. Румынский? Я вижу.
Но что-то на вас не имеет он вида.
Берется и мнется, как будто лицованный.
Я вижу и лацкан у вас засмальцованный...
Теперешних жен?! Повезло вам с женой.
Так вы не женатый? Так вы разводной?
Я вижу кольцо... Я же находка вам.
Давайте вам чудную женщину дам!
Приличная женщина. двое детей
(дети отдельно). Муж был у ней.
У нас в лечсанупре заместитель завхоза —
Лет восемь уже как от педикулеза...
Хозяйка! Чистюля! Каких поискать!
Квартирка как куколка! Что вам сказать?!
И... внешне... конечно, она не красавица,
Но я уверяю вас — многим понравится...
Какая? А — это мне выходить.
Давайте до праздников чтоб позвонить.
Клару Наумовну, я вас узнаю —
Скажете — в пухе, мужчина с трамвая.
Сделаем складчину недорогую,
А не подойдет — так подыщем другую!
Да, и это тоже о нем. Я не оговорился. Марьян был жених. И не просто - вечный, а первый киевский, опубликовавший себя, что само уже было прорывом, в единственном на весь Союз приложении к газете «Ригас Баллс». «Брачное объявление» - по сути первая его публикация – для меня по-прежнему остается шедевром сватовского жанра.
Привожу постепенно:
«Тридцатилетний – (заметьте, автор не использует экономное 30(цифрами), подчеркивая жизненную опытность, и одновременно – в антитезе к «красивому двадцатидвухлетнему» – тактично намекая на умеренный рост и внешние данные) – Тридцатилетний интеллигентный – (без запятой, вытекающий из опытности культурный барьер, мол, очевидных дур просят не беспокоиться) – Тридцатилетний интеллигентный инженер-еврей – (именно через черточку, но не привычное инженер-конструктор, или инженер-электрик, – а инженер-еврей, где национальность, как отношение к делу, любому, интеллигентному, с одновременным частичным разрушением пятой графы, мерзкой как слово «чужинэць», и все же отделяющей всех тех, кто нас не принимает…)
Итак:
- Тридцатилетний интеллигентный инженер-еврей просит фотографии детей и собак не присылать!
Далее следовал адрес и контактный телефон его соседа-антисемита – и я уверен, вы разделите с Марком радость творчества и кайф последствий.
Шестьсот с лишним писем, из которых не менее половины поступили от женщин с детьми и животными, были классифицированы и разложены по отделениям специально заведенного картотечного ящика. Фотографии собак наклеены на плакат «Зоофилия – враг брака!» Три приехавшие без предупреждения гражданки встречены, проведены по Киеву, накормлены в столовой горисполкома прекрасным комплексным обедом и с наилучшими пожеланиями отправлены по домам.
Но глазки, наглые Маркины глазочки уже загорелись.
Вы скажете – типичный ловелас, «бабник». Я бы не торопился с выводами.
Да, он имел привычку, возвращаясь с работы, назначать на Крещатике сразу три свидания – у входа в музей Ленина в 17.30, возле нового памятника Вождю на площади Октябрьской революции в 17.45, и, наконец, у старого, против Бессарабки, - в 18.00, чтобы рассмотреть всех, кого направляли к нему – Жениху - главные киевские свахи: Клара Наумовна, Дина Семеновна и баба Эля, а также другие профессионалки и любительницы, и сами клиентки, друзья и недруги, и люди совершенно посторонние.
Как раз тогда он увлекся подработкой на свадьбах и мгновенно заделался самым популярным тамадой. На него записывались. Ему подражали. «Космическая свадьба», лучшая его программа, была просто универсальна! Стоило заменить «молодых» на «новорожденного», как уже игрались «Космические звездины», и столь же легко - «Космические же проводы в армию», или «Космический уход на пенсию» или даже «Космические поминки».
Легкой элегантной проходкой, словно огибая ресторанные столики по пути на эстраду, он взбегал к Ней по ступеням музея – «девушку следует размещать несколько на вершине», – дико извинялся за минутное опоздание и начинал врать, спекулируя на всем, включая пожар, партбюро и маму с поезда, а подчас и просто на своей фамилии.
- Здравствуйте, - протягивал он вялую лапку и с дрожью в голосе сообщал: - Обездолин, Марк Обездолин, - чтобы через пару минут соскочить и рвануть дальше, если данная девушка, как он выражался, была «не фантастика».
На третью точку ленинианы, против Бессарабки, назначалась отобранная из предыдущих встреч, с коей и намечался вечер, если, конечно, на первых двух не случалось чего-нибудь фееричного.
То есть двум из трех девушек Марьян ежедневно вынужден был врать или говоря помягче – вешать лапшу. А как иначе? Такова была технология сватовства. Но ангелы-хранители обездоленных женщин не имели к Марочке никаких претензий, потому что не было ни одной, подчеркиваю, буквально ни одной, пред кем бы не загладил он своей вины, ласково, артистично и по-мужски, назначая мощное финальное свидание у себя дома, на Татарке.
Я поражался его всеядности. И не только я. Одна его бывшая, кажется завуч, подговорила учениц, и они явились на свидание ввосьмером, во главе с комсоргом! Думаю, вы догадались, - все девочки прошли через Татарку – и самая-самая, и самая никакая.
- Нет-нет! Ты не прав, ты не понимаешь, у нее, - следовала задумчивая пауза, - у нее,- пауза романтически вытягивалась, - глаза-а! Вот! Присмотрись! «О, эти очи...» – убеждал меня Марик в ответ на дружескую мину крайнего недоумения.
Я пытался постичь тайны глазной красоты, но когда однажды, он привел даму, единственным достоинством которой было бельмо на левом глазу, на мой молчаливый вопрос прозвучало:
- Нет-нет! Ты не прав. У нее, ты присмотрись, приглядись.. э-э, м-м, к правому, да!, к правому глазу! – зашептал он победно, пританцовывая и пихая меня в бок.
Романтик? Ударник коммунистического отдыха? Сперматозавр? Борец за великие идеалы человеческого общения? Мачо? Ласун? Одно время ему нравилась скромная запись, которую он вывел на визитке.
Марьян
Женский мастер
Девушки всегда интересовались, в каком смысле. И он, опустив глаза, отвечал: «Во всех!»
Да, именно во всех. Для каждой он был именно тем принцем, о котором мечталось. И каким бы кратким не был роман, сколько бы девичьих слез не было пролито, в итоге наш Битт-Бой всегда приносил счастье. Не проходило и года, как все без исключения его объекты выходили замуж.
«Ради тебя я бросила Обездолина!» – в нужный момент признавались девушка, и тут уже крыть было нечем. В ЗАГС!
Что же касается самого Битт-Боя... Серьезный разговор? На эту тему? С Марьяном?..
Лишь однажды, мурлыкая прицепившийся шлягер – помните? - «Стою на полустаночке в цветастом полушалочке», - и дойдя до слов: «А подойди-ка с ласкою, Да загляни-ка в глазки ей - Откроешь клад, какого не видал…», он вдруг посерьезнел: «Ну открыл, а дальше? Мне уже неинтересно… - и хмыкнув, глядя в сторону, добавил: - Вот и с этой страной мне, кажется, все ясно...»
Таким был - (почему я все время хочу сказать «был»? Слава богу, он жив и, надеюсь, здоров) – таков наш Марьян в пору своей молодости, а был, потому что уехал, женился-таки и уехал жить.
18
В Акко я шел пешком. Отчасти из экономии, отчасти из любопытства. Эти 15 км подарили мне две кипы, вязаные, причем одну с булавкой, клешню краба (выбросил – задохлась) и палку для ходьбы.
Шел по пляжу. Нет, лучше - по бичу. Грязно – бутылки, целлофановые пакеты, туфли, бумага... Узкая изъеденная крабами змееподобная рыба с вставными челюстями…
Это дикий пляж, его не убирают. У сетки, отделяющей платный пляж (5 шекелей) от дикого, – наши. А там - прогулочная лодка, увитая цветами, англоязычные туристы с израильским солдатом.
Искупался, поел и вошел в город.
Восток – это дети, их много. И лавки. Их еще больше.
В лавках есть все, кроме покупателей. Обтянутые кожей там-тамы, меноры, мезузы, ритуальные светильники в виде чайника, из носика которого торчит фитиль... А покупателей мало. Нет потока. Как они торгуют? Да... Перламутровые тарелки, кинжалы, пуфики... И относительно недорого, то есть относительно меня. Свобода безденежья. А купить хотелось многое. Шарфики, серебро, иконы, крестики...
Крузейдорс (крестоносцы) были народом мрачным, если судить по сводам Найтс Холла. Как человеку нужны химеры! За тысячу миль, в жару, мор и глад шли они освобождать Гроб Господень. Вдумайтесь, гроб освобождать… А кто-то, как и сейчас, за поживой, за барахлом. И чего здесь больше – фанатизма или корысти – кто знает? Вот и олимы в большинстве своем верят мало.
«Кто не верит?! – возмущалась Циля. - Многие верят. Я, например, верю, допустим, в Канаду. Кто-то в Австралию. Есть такие, что – в здесь. В Израиловку. В прошлом году меня познакомили с одним, который вернулся в Днепропетровск. Идиот… Люди верят…»
Проснулся на лавочке. Полдень. Жара. У меня осталось 6 шекелей. Этого хватит, чтобы вернуться в Хайфу. До Цфата же билет стоит 9 шекелей. И у меня есть записка к Толе. Я ковыляю к тахане, заходя по дороге в магазины с мазганами – подышать. Домой, в душный крайот, не хочу. Хочу в Цфат, столько слышал, если не сейчас – наверняка – никогда. Но пытаться трэмпом, голосовать – нет сил. Я иду к тахане и - нахожу шекель! Еще шаг – еще шекель! И еще – бог ты мой – третий! Чудеса!
Автобус попался с мазганом…
Дорога в Цфат, горная, с крутыми виражами, заняла всего час. Горы каменистые, но камень выветренный, кругловатый. Что-то от Крыма, наверное, рябь кустарников. Города не в долинах, а на вершинах холмов. И прохладнее и неприступнее.
Цфат – город священный, чудесный.
Чудо Цфата - в контрасте узких каменных улочек и неожиданных далей, открывающихся вдруг в проемах, на лестницах, соединяющих одну улочку с другой. Чудо - в террасках, закоулках, тупичках, арочках, лавочках и лавчонках, и вдруг – Иерусалимская улица, бродвей местного масштаба, огни ресторанов и ювелирных, панорама горного массива.
Цфат – рай для художников, скульпторов, музыкантов, мастеров. Галерея Леви, галерея Наймана, галерея Рубинштейна. Вот танцующий хасид из папье-маше, а вот огромный таракан из металла, а вот ла-ла-лай-ла-ла-ла-ла – из-за забора - вот дети.
Открылась дверь, и в дом вошел хасид – в черной шляпе, в лапсердаке, в черных брюках с веревочками, висящими с пояса, черных носках и туфлях. Дверь открылась с криком, и я увидел школу.
Они кричали, не переставая, пели, визжали, прыгали и дрались. Хасид упал туда как в омут. Дверь закрылась, но шум не уменьшился. Он стал говорить. Но шум не стихал. Это - дети. Это школа без заданий, без контроля. Как? Я не понимаю.
А Цфат водил меня кругами, я поднимался и опускался, я заходил с одной выставки на другую, я держался за стены и перила на террасах и вот, утомленный, присел на ступеньки ульпана (школа для олимов). Во дворе было пусто и тихо, из окон звучал рояль. Я клевал зеленый, подобранный мною гранат и слушал. Музыка, незнакомая мне, повторялась и повторялась, но с новым оттенком, с новым чувством, она разучивалась, и я понял, почему похожие друг на друга улицы Цфата не отпускали меня и мне хотелось бродить по ним еще и еще.
А еще был вечер. И фонари. И Толя, известный в Одессе реаниматолог, диссидент, бывший дважды в отказе, а теперь «земский врач», принимающий роды и выводящий из шока, в общем, на все руки. Он устроен. И он, и жена. На двоих 6-7 тысяч шекелей в месяц – этого не получают иные сабры. У него отличная государственная квартира, машина, правда, хочет «Хонду». Он устроен. И Цфат помогает, где дали, как море…
Толя показывал Цфат, как, наверное, когда-то Одессу. Неторопливо шли мы по темным улочкам, он останавливался и поглядывал на меня, а то и просто спрашивал: «Ну как?» А меня не надо было, не надо, поскольку неземной городок этот мог бы служить вечным пристанищем Мастеру.
Покой. Обрел ли его Толя? Он умница – сдал на врача. Но язык – иврит пока не дается. И дело не в том, что трудно в точности выяснить жалобы больного. С этим он как раз справляется.
На иврите не расскажешь хорошего одесского анекдота. Толе не дались оттенки. А ему нужны именно оттенки. И те, кто поймет, оценит. Их мало. Дочка с внуком в Союзе. И друзья.
- Проведать? Это сложно, да и нужно ли? Хотя… Если не сложно... Он сейчас в Киеве – вот телефон. Друг мой… Степа Ковбаско…
- Ковбаско?! Степан Петрович?! «Вуз трапылось»?!.
- Кто?..
19
«Вуз?»- «Трапылось?» – бросали они на ходу, раскрывая-раскладывая фельдшерский чемоданчик, и пока один опрашивал, второй уже готовил шприц с но-шпой, или с димедрол-папаверином, или анальгином, а собственно, «вот и все, что было, вот и все, что было, лайнер пробежал по полосе-е», - напевал Марик, которого Петрович звал Марко?, а сам прозывался медбратиком по всякому: и Степчик, и пан прохфесор, и рыбонька, и солнышко, и надежда-КГБ, то есть киевской городской больницы скорой помощи.
- «Вуз трапылось?» – обычно, входя в квартиру, спрашивали они хором, хотя знали, что у Ивана Иваныча, инвалида I группы, заныл на погоду осколок противопехотной, так и не вынутый, застрявший у виска, а у Петра Петровича подскочило из-за сына давление, а Сталина Лаврентьевна страдает памятью, но вызов принимали, и задавали вопрос, зная ответ наперед.
…Степа, Степан Петрович Ковбаско, - круглэнькый такый, лагидный, спокийный та розсудлывый, родом та родычамы з Миргороду и Марик, - худой как смерть, вечно с подколами, шуточками, анекдотцами…
Однажды, выходя из подъезда, я увидел, как старухи набросились на инвалида, что хаял скорую, наших.
- Они, - грозил он кому-то, - обязаны! Я пойду! Мозг ноет, разрывается, у меня осколок, а он, он!…
- Что он?! - тотчас перебила Лаврентиха. - Он сказал, что «у вас практически не с чего вынимать»? Так Марик прав. Какая уже вам операция. Кому кричать?! Что «вуз трапылось» могут? Лекарств нет. Мест нет. Ничего нет! У нас еще золотые ребята…
Их любили.
За помощь, за быстрый приезд, за то, что всегда выслушают, расспросят, и никогда никуда не торопятся.
На попытку сунуть им яблочко или пирожок – старческих денег они не брали – Марик зорко кричал:
- Что вы ему даете?! – и пойманная осекалась. - Он же все сжирает сам! Посмотрите лучше на меня! – и жалобно закатывал глаза, втягивая щеки…
…А как Степа давал подумать этим американским примочкам от пролежней, которые прекрасно заменяются нашей детской присыпкой и крепким ромашковым настоем!
…Или плачет бабушка, жалуется «ой, мальчики, болит, болит все…», а Марик возьмет бабушкину ладошку в свои и спрашивает ласково и задиристо:
- А вы хотите, чтоб они у вас не болели?!
И старики понимали, что пятки – для того, чтобы они пекли, а давление – для того, чтобы оно повышалось, или наоборот – понижалось, и старость – действительно - не такая уж большая радость, «но с позиций, - как выражался Марчик, - некоторых покойников…»
«Вуз трапылось?» – долго еще после Маркиного отъезда, спрашивал, входя, Степан Петрович, и делал свои замечательные, то есть совершенно незаметные уколы, и шутил по-старому, потому как пять лет непосредственно и тысяча примерно триста, не считая каганата, даром не проходят.
Прошло два или три года, и Марика, приехавшего из Израиля проведать родных, в неполных тридцать пять, здесь, в Киеве хлопнул инсульт, и Степан, конечно, Степчик - к тому времени – завотделением, - повез к себе, в больницу, и все помог, а когда уже стало полегче, занес ему котенка, гладить, успокаивать нервы.
- Ось – цэ рэбра лизин, наш, витчизняный, - поглаживая котика, каламбурил Степан, глядя на серую, как больничная наволочка, незагорелую Маркину морду…
…Засиделись заполночь. Толя рассказывал. Он путешествует. «Эту «Метаксу» - из Афин». Был в Египте, в Испании. Сейчас приехал из Эйлата, промчав весь Израиль с юга на север. На «территориях» тихо, как будто безопасно. Привез кораллы.
– Эйлат – это чудо! Красное море – это!!..
Я хочу в Эйлат! Хочу в Египет – Сфинкс, пирамиды! – отсюда можно на два дня всего за 35 долларов! Я хочу (или не очень?) в пекарню Давидовера! Я хочу писать стихи. «Не спи, не спи, художник…»
20
Кто знает слово савланут -
Тому не страшен первый быт,
Тот не услышит больше «жид»,
Того арабы не убьют.
К концу дня я пошел наниматься на работу в маафию Давидовера.
-...Это мастера – Израиль и Мусагет. Израиль еще ничего. А этот - сволочь, сука, каких не видали. Это была их пекарня, а потом их съел Давидовер, и они пошли к нему мастерами.
- А этот? Ежиком, рыжий, как немец?
- Это Конрад – немец, кажется из Аргентины – управляющий. Самая большая сволочь, подонок. Он не смотрит. Чуть что не так – шапочку забыл надеть или закурил, или присел – пальцем ткнет: «Вэк! Уходи!» И все.
Мы сидим на обрывках упаковки и ждем. Идет второй час. К нам никто не подходит, но изредка кто-то выходит из цеха и медленно, ой как медленно ходит руководство, оглядывает улицу. Нас человек пятнадцать, а четверых уже взяли на постоянную. Им повезло. Рядом со мной присел рослый, с лицом врача, красивый, холеный, но нервный. Он из Орши. Заведовал родильным отделением. Ему плохо. Экзамен сдать не может. Семь месяцев без работы. Он уедет. Звонил. «Возвращайтесь! Ждем!» Жена не хочет. Если она не поедет – уедет сам.
- Система потогонная. Надсмотрщики – арабы. Окрики – как они орут! – непереносимы. Был срыв. Слава богу, вовремя заметил. Взял себя в руки. Уеду!
- Трудно первые год-полтора, – включается сосед слева. – Потом как-то устраиваются. У меня две профессии: маляр и сварщик. Но пока платят мало – 1500 шекелей, жена не работает, малому год. Нет, здесь лучше, никто не тронет, не крикнет «жидовская морда». Взял видик, беру машину, коплю на квартиру. Здесь, здесь надо жить, у вас Чернобыль.
- Радиация – не причина. Я отслеживал динамику уродств в роддоме – роста нет, в пределах нормы. Поломай, пока не поздно.
- Уезжай, пока не поздно.
Конрад выглянул. Поманил. Мельком, непонятно кого.
- Я? Меня? Да? – спрашивали.
– Э! – ткнул. зав. родильным.
- Сволочи!.. Ну, пока! – поспешил в ворота.
Мы сидели до заката. Может, кого выгонят, заменят. Замен не было.
БАЛАБАЙТ1
«Нужны гаранты под машканты».
А у меня — одни таланты
Безрукие. А к ним — семья...
— Вот телефон балабая.
Пошла. Гамле?т. Из Кутаиси:
— Иди, подружка, на комиссию...
Глядит по-доброму. Но вот,
Пока не может. Не берет.
О, балабайт, кумир реформы!
Какие правила и нормы?!
Они не значат ни х...
«Послушай, сладкая моя,
Зачем не хочишь? Ай-я-я!»
Я понимаю. Я — за частный.
Я — за приватный. Я — за свой.
Но если этот жлоб несчастный,
Нувориш наглый и тупой,
Но если этот волосатый,
Вонючий этот жид пархатый!..
— А ты полгода у ворот
Постой, воды набравши в рот.
Воды, ценою доллар банка.
и ты поймешь, кому загранка
Любовный посылает взгляд,
И мажет рот, и пудрит зад,
А для кого — подлее суки.
И начинается психоз
Негордых слов, неловких поз.
И тяжелее жить в разлуке
С копейкой, нежели чем с ней —
С отчизной скотскою моей.
А подработать все-таки удалось. Меня взял Леня – Лилькин гарант по объявлению. (Для машканты нужно иметь двух гарантов. Друзья, родственники – те не всегда. А Леня – почему нет? Берет свой процент. – А если?.. – Леню не надуешь!)
Мы мыли, отшкрябывая плитку на полу, а потом красили. Хозяин – Гамлет Карапетян из Кутаиси – стоял над нами все четырнадцать часов и весь второй день, кивая и улыбаясь: «Харашё, харашё», показывая пальцем, где не так, и мы кивали и поправляли.
60 шекелей! Это была удача; билет в Эйлат – 36 шек. Или три дня питаться!
– А Ленька? Сколько ему дали? – домогалась Лилька.
Но я не видел и не завидовал…
21
«Я работаю негром в арабской газете», - жаловался в письме Марик. И была за этим тоска и рутина, расовая или классовая ненависть, которую иначе как крипацкой не назовешь.
С таким чувством новую «Тетю Соню» не создать. Не получится.
«Тетя Соня». Гениальная «Тетя Соня». Бессмертная.
Марик написал миниатюру еще до отъезда. И я сразу – да что я – вся страна полюбила ее, родную мою тетю всех времен и народов, неслучайную тезку моей бабушки Софы – хозяйки и домоправительницы, - но глубже и больше – Соню нового перестроечного времени.
О, мой народ, моя интеллигенция, обращенная в «челноков» и «торгашей»... Слава богу, рядом есть любимая тетя, которой все по плечу. Я слышу ее голос: – «У тети Сони плохого не бывает!» И вижу, как терпеливо учит она «это несчастье»: как не попасть, чтобы не кинули, и куда, и чего, и кому.
И люди меняются! Крутятся, вертятся. И уже не проклинают перестройку, а равно и лямку негра в арабской газете, а компетентно сетуют на пробелы в законодательстве и язвы менталитета.
А еще я вижу нуворишей, тихо ненавидимых соседями за все: за мерс и ротвейлера, за морду, за лобик, за загривок, за пузо, за водилу, приезжающего в ночь, за противоугонную сирену, за телку или жену, за расфуфыренного выродка, - я вижу крутяков и братву, которую моя тетечка тоже учит, учит главному - терпимости и партнерству, а значит - уважению к самому себе, а значит - социальному миру.
И за каждый факт милосердия и меценатства, - малейший и даже гипотетический, - за попытку не колоть глаза, за умственные потуги, за движение к человеческому в животных, хищных, чекистских, - потому что вышли мы все из народа – сердцах, я уклоняю голову к Тете, а значит – и к Марчику, к автору, сменившему не только страну, но и расу…
«…Я работаю негром, - писал он в письме на переданной с оказией дискете, и рассказывал о попытке вручить ее Геннадию Х., да, тому самому, для которого еще в Союзе сделал программу и проехал с ним всю Сибирь, стал Автором, попал в орбиту.
- Я узнал, что Х. приезжает с гастролями, и побежал в Русский Культурный центр, выстоял, дождался: - Помните?- Да…да…- Этоздесь - на дискете – мои новые миниатюры, скетчи, расска… - Ну…ну…- Посмотрите? - Тэ…тэ…- Я позвоню? Подойду? – Ду…ду…
Гастроли кончились. Мэтр не позвонил. И то же случилось с Кларой Н., и Ефимом Ш.…
Эта дискета попала, наконец, ко мне, с просьбой найти Володарского и передать ему, может быть он, в Киеве, возможны ли гастроли? «Здесь, на дискете, мои новые миниатюры, скетчи…»
Она валялась у меня в столе и доползла до Володарского через полгода, в его стол…
22
Иерусалим
Жду Марьяна. Сижу на скамейке.
Духота. Тахана мерказит1.
Дева с винтовкой. Старик с канарейкой.
Нищий звенит шекелями в кружке.
Рядовую увел молодой хасид.
За стариком пришла старушка.
Нищий шекелями в кружке
звенеть ушел далеко, далеко...
За мной не идет никто.
В этом Городе друзей много.
Марик и Арик, и Сеня, и Гога.
А еще я надеялся Бога, сразу, как выйду на тахане,
Встретить...
— Слышите? Он приближается.
Он возвращается ко мне.
Шекель о шекель, о кружку, о шекель.
Упитанный нищий (бармен?!) подсел,
Мелочь сколачивая, миксуя в шейке...
Где же ты, Марик? Где же вы все?
Не понимаю, зачем я ближе...
Зачем мечтал в далекой стране...
Если не слышу Тебя, не вижу
В сизой дымке на тахане...
Зал ожидания. Ждать полагается.
«Место под солнцем» — сижу в тени.
А вот и Марьян. Идет. Улыбается.
Иерусалим с таханы начинается.
Все начинается с таханы...
Утром я пошел на бесплатную экскурсию, проводимую для олим обществом охраны природы. «Храмовая гора. Золотой купол. Мечеть Эль-Акса».
- Внутрь заходить не будем. Ничего интересного, – пояснил экскурсовод. - Во-первых, он не золотой. Анодированный алюминий. Считается, что Мохаммед – ихний пророк – перенесся во сне с этого камня – в Мекку (или Медину). Уснул на коленях у старшей жены и перенесся в шестьсот каком-то году нашей эры. На самом деле – это камень древний, это место, где Авраам хотел принести в жертву Ицхака, но Господь, остановил его руку, заменив на барашка.
- Эль-Акса? Нет, никакой архитектурной ценности не представляет. Сто раз перестраивалась. Вообще, хотели бомбить это место, но чтобы не обострять – отказались.
- Музей ислама? Там ничего ценного, ни в художественном, ни в историческом плане. Ну, сходите, сами увидите…
Интересного и в самом деле было немного. Запомнились два стенда. С фотографиями убитых 8 октября 1990 года (в мой день рождения), когда подростки-мусульмане бросали в евреев камни со Стены Плача, а в ответ прозвучали выстрелы. И другой – окровавленные майки, рубашки, футболки, шорты, платки…
- Коран? А зачем. Это – вырезки, компиляция из Торы…
К Стене Плача я пошел сам, без экскурсии.
Приколол бумажную кипу. Походил среди молящихся. Попал на праздник Торы. Ее выносят с пением в деревянном футляре и, развернув, показывают окружающим. Из-за ограждения женщины бросают конфеты, а дети (мальчики) – носятся и подбирают.
Старик в облачении обратился ко мне:
- Джуиш?
И не дослушав объяснений, намотал мне на левую руку ремешок с черным кубиком (тефилин) и такой же укрепил мне на лоб. - Повторяй за мной, - сказал он и мы вместе прочли «Шма Исроэл…» молитву. Я не знал перевода, и все же надеялся, верил, что это на пользу, поблагодарил и вспомнил. Вот откуда эти слова! Это же бабушка Соня шептала мне, когда я шел на экзамены, или уезжал куда-то, а на мой вопрос буркала: - Это по-цыгански.
Большего добиться у Сони я не мог, и не старался. Только после ее ухода понял, как они боялись, скрывали, чтобы не узнали соседи. Потому что в эвакуацию уезжала Сура Моисеевна Гринберг, а вернулась Софья Михайловна Алексеева. И детей - маму и дядю - записали русскими. Соня как чувствовала: без «дела врачей» не обойдется, а детям поступать, маму - в мед, дядю – на химика. И бабушке Злате – Сониной маме – строго-настрого запретили что-то говорить соседям, особенно с кем «на ножах», особенно Тарановым, они писали, и надо же, чтобы Злата забылась и именно Тараничихе:
- Ай, что вы ее слушаете… Какая она русская?! Она еврейка, Гринберг…
Случилось так, что Тарановы не написали. Или попросту шел уже 1955. После злополучного разглашения и скандала бабушек не прошло и месяца, как Златы не стало, и Соня сама ездила на могилку, а детей категорически не брала.
«Шма Исроэл...»
23
О, сколь ужасна доля безденежного!
Это невыносимо – считать копейки и строить день свой так, чтобы не платить за проезд. Появляются комплексы: вины перед гидами, предлагающими услуги, стыда, осознания собственного ничтожества, когда думаешь, хватит ли денег на мороженое (2-3 шекеля), стакан воды (1 шекель), посещение пляжа (5-10 шекелей), покупку открытки, крестика в церкви (1-2 шекеля).
О, подлая страна, сделавшая из меня совка! На питание же у меня есть. 10-15 шекелей в день. Нет! Это желание сэкономить, чтобы что-то привезти… Что?!
А взгляд на землю, ищущий, когда думаешь, эх, хорошо бы найти пару шекелей (или долларов!), этот комплекс Корейко, но – ничтожно, по мелкому.
У крепостной стены - я перегнулся через перила – и увидел, господи, я увидел – 100 долларов! Там, с той стороны, с отвесной, в траве, пробившейся между камнями, торчит кусочек чудесного салатово-сероватого цвета и цифрой 100. Но – там, с той стороны. Круто. Сверху никак. Снизу тоже довольно высоко. Надо обойти стену, там перелезть, пройти по парапету… Солнце слепит. Трава вырывается из-под пальцев. Немцы увидели, показывают. Обувь скольз…а! - чуть не сорвался… Ну, еще, еще…
О-о-о! Это не сотня. Это просто похоже! (Никто не видел?!)
Господи, я ничтожен, я забыл для чего я здесь. Прости меня, Господи. Дай мне силы отличать зерна от плевел. Стыжусь, Господи. Но слаб, слаб, Господи. Укрепи, научи меня, избавь меня от лукавого, Господи!
24
…Они обступили гидичку и на ломаном английском пытались объяснить, показывая пальцами на купол Лаврской колокольни, а та, экая и акая, - не понимала, но в силу врожденной наглости делала какие-то элегантные движения руками, и пошла пятнами…
Как вдруг:
- Этот, господа, двуглавый орел, - на хорошем английском полилось откуда-то сверху, - и по команде подняв головы, экскурсанты увидели на стремянке мужичка, заслоняющего солнце, в треухе, простреленной ватной телогрейке и кирзе.
- Этот, господа, двуглавый орел, - повторил мужичок, - символизирует союз рабочего класса (голова налево) и крестьянства (голова направо), а корона над ними – руководящую роль Коммунистической партии Советского Союза.
- О! - Я-а! - пораженные господа зашумели на родном, немецком. И Марьян, заговорив было с ними на «хох», прислушался и повел уже речь на шлезвиг-голштинском диалекте, чем уж вовсе сразил собравшуюся публику..
Повествуя о размерах и стилях, проводя исторические параллели и дословно цитируя летописи, Марчик – в то время каменщик-реставратор и сопредседатель клуба любителей Киева, - выказал природное гидово начало, глубокий профессионализм и интеллигентность, обходя при этом щекотливые проблемы советско-германского прошлого.
Раскланиваясь, пересыпая афоризмами и помахивая на прощание каждому, закончил он экскурс эффектным пассажем:
- Да, да, господа! Каждый советский человек имеет возможность досконально изучить историю нашей страны и несколько иностранных языков для такой встречи, как эта!
25
И тут выяснилось, что в Гефсимане он не был, за три года – ни разу, и причина тому была одна – Елеон – в арабской части, мы туда не ходим.
- Как? Даже на экскурсии? Марк – ты что?! – я не мог поверить: неужели страх, или как еще - стадность? – как объяснить? – Тебе же всегда было интересно?!
Не знаю, то ли ему стало стыдно, то ли возобладало гостеприимство, но утром, надевая кобуру и, проверяя затвор пистолета, прежде чем вложить его в кобуру - он первый завел разговор о Гефсимане, и сообщил - сегодня, после обеда…
Дорога от Яффских ворот до Львиных, пройденная мною уже не раз, в том числе и с Марьяном, осталась позади, и залитая солнцем – августовским, отъявленным, - арабская площадь предстала нам точно зал ресторана «Астория» - напряженной и дикой повадке Фокса.
Группируясь у лавок и остановок, присев воровски на корточки, и попросту покуривая и озираясь, толпились черноголовые загорелые мужчины – арабы – и поглядывали на нас – черноглазо, бегло.
Маркина кобура – я с самого начала был против этой дурацкой показухи – тяжелила уже и мою душу, и мы пошли быстрее, догоняя туристов, выведенных из автобуса.
Мы плелись в хвосте, поднимаясь на гору, и духота, и скучный Марьян – выяснилось он и путеводителя не читал – а больше всего его безразличие – утомляли, и после недолгой прогулки мне захотелось домой, чтобы придти сюда потом, одному.
Солнце уходило, жара спадала. Возвращаясь по старому городу, Марьян разговорился, а в Русском центре, за пивом и кофе, окруженный знакомыми - воскрес, заговорил точно и жарко. И оттуда повел меня по району, где живут пейсатые, обсуждая их нравы и быт.
Мы шли по улицам, где в шабат побивают камнями случайно заскочившие сюда автомобили, мимо зарешеченных балконов, где нет ни радио, ни телевизора, и газет тоже, как правило, книги только религиозные, в семьях по 8-10-12 детей – помнишь наши многодетные, дебил на дебиле…
- Тоже фанатики, - кивнул я, сличая с арабской частью, а Марк: «Нет, нет!» – покачал, не соглашаясь. – Здесь не убивают. Кстати, здесь, в Израиле, нет смертной казни.
- Все равно – живут, как в тюрьме!
И Марк вновь возразил:
- А вот они считают, что это мы за решеткой, мы, не открывшие путь…
26
Недалеко от Львиных ворот по Виа Долороза – последнем пути, описанном в Евангелии – есть церковь святой Анны.
XII век. Тяжелая романская архитектура, а акустика поразительная – звук реверберирует, проникая в тело, подергивая за фибры, за внутренности. Звучишь, как орган. Состояние колонки на рок-концерте.
Ирландцы запели псалом.
Один из них, вылитый Клинтон, пел и улыбался. Хор-изма! Способность петь в хоре…
Господи, как жаль, что народ наш разваливается, как пересохшая глина. Они – индивидуалисты до самомнения - пели слаженно, глубоко отдаваясь коллективному звуку. Анна умножала их душу. А я - я ушел и вернулся, я погружался в вибрации и думал о том, какая радость петь в хоре, в единодушии, общей молитвой, всем сердцем.
От Львиных ворот по Виа Долороза я пришел к коптам, чернокожим, уверовавшим в Белого Христа. В монастыре – церковь, школа, жилье. Я остановился во дворике, заглядевшись на глиняные, покосившиеся коптские домики, где по внешнему виду трудно определить, какой сегодня век. Я замер, вслушиваясь в тишину и покой, как меня окликнул какой-то потерявшийся баварский турист, и я повел показывать ему вход в маленькую коптскую церковь, откуда переходы вели в Храм Гроба Господнего.
(В то время, в 1992, входя в церковь, я не крестился, мне было неловко, но церковный сумрак спасал меня, туриста, уводя в уголок, на крайнюю скамью…)
Вошли. Сели рядом. Окна зашторены. Слабые свечи. Темнокожие служители в глухой одежде.
За иконостасом по диагонали шел поток света, разделяясь на тонкие, мерцающие лучи. Они жили, пыль не стояла в них, - двигалась, модулировалась…
Коптский священник бормотал, читая молитву, а я вглядывался в структуру лучей, в мириады пылинок, миров, захваченных общим и неизъяснимым движением…
…Дьявольский немец шумно раскрыл сумку, откуда с грохотом вывалил фотоаппарат, душераздирающе рявкнул затвор и вспышка, как в последний предсмертный миг, осветила икону, не видимую ранее из-за луча.
Иисус шел ко мне, именно ко мне. И улыбался.
Прошло двадцать лет. И в Храм Гроба Господнего нас с женой привела Леночка, маркина дочка. За спиной остался Старый горой, шумный и крикливый, разноязыкий и торгашеский, залитый солнцем. Вступая в сумрак собора, я надеялся на тишину и покой, но и там двигаться пришлось в толпе, протискиваясь поближе к святыне.
- Если ви хотите, - сообщил солидный человек на ломаном русском, - я могу провести вас без очереди. Недорого.
На память пришел анекдот с ленинским мавзолеем, но интересоваться «А сколько за вынести?» я не стал. Выносить здесь некого. Гроб естественно пустой - читайте первоисточники. Поэтому и жена, уловив мою ухмылку, и Леночка замотали головами. «Нет, нет, спасибо».
Очередь к армянской части Гроба Господнего вилась вокруг, люди стояли плотно, по семь человек в ряд, и нужно было выстоять часа два, а после блатного предложения стоять хотелось все меньше.
- Странно, - сообщила Леночка, - почему они все прутся именно в армянскую часть? Вот же с другой стороны - коптский притвор, куда тоже выходит надгробная плита, причем со стороны изголовья. И точно также можно приложиться.
Сюда очереди не было. Чернокожий привратник дремал, и мы последовали Леночкиному совету, последовали без суеты, без оглядки на очередь. И, поднявшись с колен, вышли из Храма молча, и так же, в молчании, свернули на какую-то магазинную, но почему-то безлюдную улочку, с сидящими на стульчиках продавцами, из которых ни один нас не окликнул, ни пригласил зайти, ни шепнул на русском «Не дорого!»
Только вернувшись домой, в Киев, я осознал с каким чудом мы соприкоснулись. Нет, речь не о Храме, не о Голгофе, и даже не о самой гробнице. Чудо состояло в ином. Оказалось, в этом непрерывном круговороте туристов и паломников, торгашей и экскурсоводов, в этом овавилоненом Граде - возможно уединение, возможна личная, без посредников и соседей, встреча-молитва.
27
- Запомни, в машины с голубыми номерами не садись. Это – арабье, с территорий. Не приведи, узнают, что еврей – тут столько случаев, – с голубыми - ты запомнил? – никогда!
И я не садился. Хотя они-то как раз и не брали, полные, набитые людьми или барахлом под завязку.
- Сегодня будет жарко. Сорок в тени. Ты бы остерегся. На Мертвом – вообще пекло. – отговаривал Марик. А я все же поперся. Взял воду, панаму. И спрятавшись в тени придорожного столба, голосовал, вытягивая руку так чтобы и она оставалась в тени. Я уже не надеялся, как подкатил мерс. Старый, пропыленный, битый. С голубыми, естественно, номерами, о которых я вспомнил, только оказавшись на заднем сиденье между двумя бородачами.
По городу катили молча, а как выехали на автостраду, сидевший рядом с водилой задал вопрос, откуда я.
- ЮэСэСаР, Совьет Юнион, - повторил я гордо.
- Олим, переселенец?
- Турист.
- Турист... – повторил главный и что-то сказал на арабском, по-видимому перевел; мои соседи ответили, закивали.
- Джуиш?
- Отец русский, а мама – еврейка.
Главный перевел не сразу. А когда перевел, один из моих конвоиров засопел, а второй – или мне показалось – буркнул: -Аллах акбар! – после чего снова замолчали.
Посадки финиковых пальм остались позади. Слева потянулся берег, гладь Мертвого моря, увы, недоступные, за двойным сетчатым забором с колючей проволокой поверх. Приграничная зона. На берегу не было ни души и только солнце отливало в сером расплаве. Справа по желто-бурым откосам перепархивали вороны. Машин было мало и я, почему-то вспомнил «Ассу», кинофильм с кавказским названием, и ту, вы помните, ужасную сцену в автомобиле, как мы повернули, водила затормозил, и мы оказадись метрах в ста от стоянки у входа на пляж.
- Тебе туда, – сказал главный. Меня выпустили и я поспешил к воротам, в очередь, которую регулировали солдаты израильской армии и полицейский патруль. Очередь шла быстро, но солнце палило, и наклонившись к окошку, я ничего уже ни хотел, как только - в воду, пусть мертвую, но какую угодно.
- Паспорт? – спросило окошко.
Паспорт у меня был. А вот денег... За вход - 36 шекелей!
- А скидки для олимов? Для туристов из СССР? Нет? Чо же мне делать?
- Здесь недалеко есть арабский пляж. 12 шекелей.
- Недалеко?
- Да, километров 7-8. По трассе. – вежливо выдало окно. И я пошел, ясно понимая – не дойду.
- Эй! Турист! – рядом затормозила машина и я узнал, да, тот самый мерс с голубыми номерами. – Далеко?
– На арабский пляж. Подвезете?
– Садись. – сказал главный. И когда я разместился, спросил мое имя.
- Сергей. А вас как зовут?
- Это хорошо. Я - Мохаммед. Он, - показал на водителя, - тоже. А это – Иса и Хамид. Нет, это дорого 36 шекелей. Довезем, здесь недалеко.
На арабском пляже мне, как туристу из СССР, продали детский билет. За 6 шекелей. Я был единственный неараб и меня приглашали фотографироваться. В том числе и на групповые фото, и в компании женшин, несмотря на пляж, одетых полностью и во все черное. На автобус – подсказали, есть недорогой – провожали шумно, весело.
Все было хорошо. В автобусе я беседовал с неулыбчивым москвичом, юристом Севой, убеждавшим меня, что мне просто повезло, что они непредсказуемы. А я сетовал по поводу «ока за око», растекся мыслею насчет необходимости делать шаги навстречу, к пониманию и сотрудничеству. Теперь я понимаю, что его, ватика со стажем, не могли не раздражать снисходительные нотки и общие слова. И он нервничал, убеждая меня в обратном, «у нас же нет смертной казни – это они убивают, а мы тащим в тюрьму», и вышел не попрощавшись.
- Ну да, - думал я, - еще один глядит на проблему изнутри, живет внутри конфликта, меня не слышит. А как бы хотелось утишить, найти путь к доверию. Ведь они – такие же люди. Тоже – люди.
Улыбки, совместные фото, голубые номера, экономия в 30 шекелей – день был хороший, солнечный. Вот только температура к вечеру у меня подскочила до 40. – «Тепловой удар», - констатировал Марьян, укладывая меня на свою кровать, отпаивая чаем и бульоном. И ничего не сказал о том, что в тот же вечер в Бат-Яме араб зарезал 16-летнюю девочку, израильтянку. Нет, не с территорий, местный, отец двоих детей...
28
В большой семье Максимовых – «паровоз» дедушка. Он очень болен. Почки. Если, не дай бог, что-то, Ирочкиных никайонов(уборка квартир) на проценты не хватит. «Я говорила, не брать такую квартиру. - (Это возмущается бабушка. Они ждут переезда.) «Ване - нужна мастерская. Ване - нужна выставка. К Ване приходят…» Художников здесь больше чем писателей, поверьте мне…»
(Я верил. И слушал бабушкину подругу, тетю Лизу, пока меня, «нелочкиного сына и сониного внука», кормили на кухне. До даты вылета, указанной в обратном билете, оставалось четыре дня. И я планировал прожить их здесь, у Максимовых, в Бат-Яме, поближе к аэропорту.)
«...я боюсь даже подумать об этом. Машканты требуют выплат. Семь процентов! Это немало. Каждый месяц, как закон...»
Семья экономит. Покупают только на промке. Кое-что подарили соседи. Счетчики на все: на газ, на воду. «Краны, пожалуйста, тщательнее…»
Стасик тоже помогает. Моет машины.
- Я вышел во двор с ведром и подошел к одному. И сказал, что могу помыть. Он сказал:
- Хорошо. Жди меня, в час я подъеду.
Я вышел. Ждал. А он не приехал. Но потом несколько нашлось. Правда, один спросил:
- Что, тяжело олимам с деньгами?
И дал 10 шекелей. Хороший человек. Просто так, не за мытье.
Сейчас – два-три раза в неделю по 8-11 шекелей.
Один, правда, предложил за 1 шекель. Но это очень мало. У меня больше уйдет мыла. Это мало. Но у меня сейчас меньше клиентов. На заправке – 5 шекелей. И там есть пылесос. Я же выметаю щеткой.
- А куда деньги?
- А вот я купил отличный чайник. Я хотел купить компьютерную игру (Стасику 12 с половиной лет), но решил, что чайник – это более важно. Нет, мы его не используем. Это в новый дом. Смотрите, это – супер. Простой – за 87 шекелей. Я мог его купить. Но я занял у бабушки еще 5 шекелей и купил за 100. Потому что это не простой, а супер. Вот здесь индикатор воды. Автоматическое отключение. Это хорошая покупка. Я сделал правильный выбор. Согласитесь, очень красивый, экономичный прибор.
А вот, смотрите, я купил лампу. Это не такая дорогая покупка. 24 шекеля. Видите, это отличная фирма. Вот здесь – для ручек, карандашей. А здесь – для резинок. Видите, какая она устойчивая.
И это не лампа дневного света. Это не вредная. Черный цвет практичен. Я думаю, я сделал хорошую покупку.
А вот, смотрите. Это рюкзак. 10 лет гарантии. Смотрите, спинка – жесткая. Это ортопедическая, полезно для спины. Видите? Это самый дорогой. Сто восемьдесят пять шекелей! Но, согласитесь, я сделал правильный выбор…
Утром я уехал в Эйлат.
29
Автобус Тель-Авив - Бершева -Эйлат - 36 шекелей в один конец. Как раз столько у меня и осталось. Поэтому туда решил попробовать трэмпом. Простоял на трассе на Бершеву с 9 до 11, никто не берет. Ладно, плачу 12 шекелей до Бершевы. Приезжаю в 13 часов. Стою час, стою второй – хоть бы одна собака остановилась. (Если бы мне сказали, что до Эйлата больше 300км, если бы я знал, что 250 из них – по раскаленной пустыне, если бы … - как хорошо, что всего этого я не знал…)
Без чудес не обошлось. Джип. В нем парень – Роми Кеслер, доктор биохимии.
- Эйлат? О’кей! Олмост (почти) Эйлат! – и мы поехали!
Джип гудит. Мотор раскален. Жмем хорошо за 100, а вокруг Негев, камень, земля в трещинах, сгоревшие поля подсолнухов, кое-где бочки и тенты бедуинов. Пустыня – а какое разнообразие: фиолетовые, красные, желтые, черные горы и земли, серые обрывы и высохшие русла рек, и белый кэмел на пригорке и на рекламе завода по производству мела. С Негев спустились к Мертвому морю, и тут по ушам ударило давление (300 м ниже уровня моря). Повернули направо и понеслись вдоль иорданской границы. Слева горы и справа, а мы идем по дну Красного моря, ушедшего к югу миллионы лет тому, делаем остановки для фото.
…Клубничные поля под пленкой…
…Столбы финиковых пальм…
Роми угощает меня кексом и ледяной водой, а я дарю ему дудочку и купон. Между нами лежит автомат, периодически пикает рация, и мне кажется, что он такой же биохимик, как я – шпион…
Ему – налево. До Эйлата осталось каких-то 90-100 км… Мы расстаемся друзьями. И я мгновенно трэмпую попутку. Водила с медальным профилем командора жевал гат, предварительно потирая каждый листик пальцами. По дороге молчали. Горы готовились к закату.
На закате я прибыл в Эйлат.
Спать на пляже мне еще не доводилось. А здесь – весь пляж – школьники, студенты, рюкзаки, подстилки, ночные купания, визги, огни Акабы на иорданской стороне залива, праздничная яхта в огнях. А еще – скрещивающиеся лучи прожекторов и военный джип с тремя патрулями, которые то освещают море, а то – душевую с визжащими и танцующими в софитах девчонками.
Ночь была звездная. Прямо в лицо мне глядели Весы. А потом – почему-то лежа – заиграл Орион. Вдали, над горами плыл Дельфин. А спутники и метеоры дополняли картину.
Часов до трех давала жару дискотека. Но зато с 3 до 6 пляж угомонился и я придавил вволю.
Проснулся от крика.
- Софа! Лера! – он стоял по грудь, в маске, - Сюда! Скорее! Идите скорей! – и окунал голову в воду, вынимал с выражением, - Булку, булку возьмите!
Это непередаваемо. Будто в аквариуме. Рыбы – от мальков до метра, и все – разной раскраски, плоские и бочонками, с хвостиками и без, зубастые и губастые…
Перламутровая с бирюзовыми часами, одетыми на нее, как на руку…
Зеленая толстячка в розовую крапинку, причем каждая крапинка обведена черным ободком…
Осьминог - под коралловой горкой, лишь пара щупальцев изредка показывалась, присосками наружу… Я нырял и нырял, но голову разглядел плохо, мельком…
А кораллы – как веера, и кустом, разноцветные, и шляпкой гриба размером с журнальный столик…
А раковина с фиолетовыми губами…
А еще добавь аквалангистов, и воду прозрачнейшую, и найденные мною в песке 20 шекелей, бумажкой… И может быть немного добавь меня, Господи…
ЭЙЛАТ
Красное море, какого ты цвета?
Что это? Как это? Где это — Это?!
Где чудесами несметно богат?
Чудное море лежит меж горами.
Славное море, священный Эйлат.
Солнце заходит. Уже за грядою
Высей Египетских. Небо и море
Праздничный, черный надели наряд.
Черное море лежит меж горами.
Черное море, священный Эйлат.
Солнце восходит. Еще за грядою
Гор Иорданских. Но небо и море
Праздничный, красный надели наряд.
Красное море лежит меж горами.
Красное море, священный Эйлат.
Солнце взошло.
И повис меж горами,
Переливаясь сквозными лучами,
Зеленоватым играя огнем, —
Чудный аквариум! — Помни о нем!
Помни о нем, надевая нарядный,
Тот, облегающий, балмаскарадный —
Маску и трубку— на карнавал:
— Здравствуйте, рыбка!
Здравствуйте, губка!
Манишма1, крабы?
Бесэдер2, коралл!
Ко всем чудесам и везениям прибавляется еще одно – до Бершевы меня согласились взять эмигранты (- Софа! Лера!) из Хмельницкого. Мы договорились на утро, на 10.00.
А пока я познакомился с французом – толстым-претолстым Жоли и его мамой. Жоли - джазист (тромбон), приехал на конкурс, играет с русскими. Но об этом мы не говорили - мы кормили рыб, с рук, такие они непуганые. А рыбы бурлили у наших животов и жолина мама несла новые булки.
…Ночь. Аквалангисты с фонариками… И утро, долгое…
…Стайку мальков вспугнул хищник – ах! - взлетают они над водой – и серебро… Красное море делает ручкой…
Те, что из Хмельницкого, не приехали. (Не они ли подкинули двадцатку?) И я поехал, как король, автобусом с мазганом!
Рядом со мной - через проход – парочка в военной форме. Мужественный, слегка лысоватый парень с деревьями на погонах и девушка с мальчишеской стрижкой. Они ласковы и внимательны друг к другу. Он – сдержанно, она – нежно. Любовь.
И не надо объяснять - почему. Хотя, наверное, она любит его еще и за то, что он защищает их будущих детей. А он ее – еще и как боевую подругу…
Кому нужна война?! Тем более при таком изобилии. Не нужна. Ни дантистам, ни адвокатам. Никому. Деваться некуда – развитый, деятельный Израиль – уже инородное тело в арабском мире. А добавь к этому предысторию с незабытими жертвами... И конца не видно.
И еще одна встреча. От Бершевы до Тель-Авива рядом со мной - Фима, из Ташкента. Здесь два года. шесть месяцев в армии.
- Говорят, первые месяцы долгие, а потом – незаметно?
- Служба? Война. Патрулирование территорий – это война. Отцу я сказал. Ну, на тот случай. А мама не знает. Наши ребята служат хорошо. Был марш бросок. На 20 км. Они все пришли. А сабры – паиньки, истерички. «Я брошусь!» Автомат на себя наставлял…
Я уеду. Кончу службу – нет, не в Союз. В Штаты. Все равно, где начинать. Я хочу учиться. А здесь приехал, сразу работа, работа… В Союзе я был бы уже на 4 курсе. В общем, посмотрю…
- Эти мальчики – я от них без ума! - признавалась Лилька, и закатывала очи, гадкие от восторга.
30
Мне дали на денек видеокамеру и я поехал в Иерусалим. Поснимать, попрощаться.
Большую часть дороги меня подкинули. А затем стрэмповал грузовичок. Даня из Бердичева.
- Я что? Шоферю. «Верхнее» не для меня. Еще в Союзе бросил. Учился, а со второго курса ушел.
А Лерочка (жена) имела в Союзе высшее – пед, для глухонемых детей. Здесь год переучивалась. По трехлетней программе. Было тяжело. А закончила – тут система такая: если год поработать по специальности - тебя дальше будут трудоустраивать.
Больше года искали. Куда не сунешься – только свои, по блату, только протекция. Уже думали плюнуть. И вдруг – да! Рядом с нами, воспитателем. Такая удача! Работает. Хорошо. Месяца четыре. А пошла за справкой – там написано: нянечка. Это же не по специальности…
Помог случай. Наш добрый гений – есть один ватик, нас опекает – в разговоре с хозяином, между прочим, завел и о нашей проблеме. А тот как раз оказался спонсором школы для глухонемых в Тель-Авиве. Взяли! И я в Тель-Авив вожу. Утром отвез, вечером забрал…
Даня улыбался. И я радовался за него и задавал свои вопросы скорее так, для беседы.
Он кивал, соглашался. А на прощанье, тормознув у монастыря:
- Знаешь, ты поменьше слушай и поменьше болтай. Приедешь – звони. – И поднял кулак в «нопасаране».
Монастырь Святого Креста основан на том месте, где Лот (тот самый, с дочерьми, из Содома) по преданию принял из рук ангелов три посоха, и поливал их иорданской водой, искупая грехи свои, и выросло триединое Крестное дерево - пиния-кипарис-кедр, - послужившее затем материалом для Иисусова Креста.
Содом – Спасенный Лот – Чудесное Дерево – Крест – Голгофа. Вот, оказывается для чего спасли Лота, согрешившего с дочерьми, чтобы вырастил Крест Спасителю. И Спасение обернулось Распятием. Как все заверчено! Сколько совпадений, невероятных, необъяснимых. И верно, Промысел – загадочный план, тайный, сокрытый. А может придумки позднейшие, байки для легковерных?
В монастыре было тихо. Утро. В соборе – ни души. Я включил камеру и византийские фрески, родственные нашей Софии, приблизились, наблюдая за мной.
Роспись сохранилась фрагментами. Глаза, сапожок, персты в крестном знамении, греческие буквы. Лик Христа Спасителя. Но только верхняя часть. Лоб, Глаза, Горбинка…
«До срока замкнуты уста.
До срока замкнуты уста.
– чудилось мне, и я повторял, шевеля губами, оглядывая купол и стены и хор святых, живой и дружный, обнимающий пространство собора. –
Но, слава Богу, есть душа.
Но, слава Богу, есть душа…»
Еще не молитва, уже не молчание.
Снова - через двадцать лет – я пришел к Монастырю утром. И присел у железной двери.
- Смотритель бывает здесь нечасто. – сообщил мне прохожий с собачкой. – А монахи – их осталось четверо – кажется, в отъезде.
Ждать? Я посидел минут двадцать. И еще пятнадцать. И еще десять. Солнце припекало. И я подумал, что пора возвращаться, как тут на колени вспрыгнула кошечка, - откуда взялась? – маленькая, аккуратненькая. И сидела ровно столько, ластилась и мурлыкала, чтобы я дождался смотрителя, молодого парня, который был и за ключника, и продавца монастырской лавки, и дворника, и гида.
Монастырь и в самом деле был пуст.
И он повел меня по монастырским дворам, показал, где располагаются кельи, разрешил подняться на крышу и открыл врата в подземелье. А оставил – в сумраке у той же византийской фрески: Лоб, Глаза, Горбинка...
31
Я вернулся в Старый город и снимал, снимал. Храм Гроба Господнего, коптская церковь, Виа Долороса, церковь св.Анны, Гефсиман... Вышла целая кассета. А вторую я приберег для супермаркета, отдела кулинарии. Шейки, ножки, крылышки, рыба всякая, сыры, фрукты... (Собственно, что сейчас об этом писать, зайдите в любое «Сельпо», «Фуршет» или «Мегамаркет» и убедитесь: не хуже, а то и лучше, чем там. Но тогда...)... колбасы, кофеты, выпечка, мороженое! Я снимал, глотая слюну, представляя, как неотрывно будут смотреть дома, в Киеве, и расспрашивать о ценах, а не о вкусе – такое не может не быть вкусным, наверняка пальчики оближешь, – расспрашивать, склоняясь к отъезду. Потому что в церковь можно не ходить, мы и не ходим, а хлеба насущного, хочешь-не-хочешь, организм требует, три, четыре, а у кого и шесть раз на день, а со всем этим, кулинарным – тем более...
Вы, наверное, поняли – консервы и деньги (не считая маминой сотни) кончились у меня за день до вылета. Но что такое – день, ерунда. Как тут – забастовка диспетчеров в Борисполе – ничего в Киев не летает и когда полетит – непонятно. А живот подводит, бесплатной водой из фонтанчика сыт не будешь, и фиников вокруг терминала нету, хорошо, качественно убирают олимы...
Чудо случилось к вечеру, когда нас, отлетающих, увезли из аэропорта в отель, в «Хилтон», к морю на первую линию, и поселили за счет «Аэрофлота», и в тот же вечер повели на шведский стол, тоже бесплатный, и так четыре дня...
32
Наина Григорьевна и Бэллочка живут в отеле «Плаза», по соседству с «Хилтоном». Номер, с учетом помощи – 220 шекелей в месяц. Комната, совмещенный санузел. Рядом в номерах – олимы. Это сообщество не привлекательно. Бывает, что их не хотят брать на работу. Это понятно, когда русские варятся в собственном соку – у них растет преступность.
Бэллочка – даун с сознанием семилетней девочки. «Бэллочку взяли на работу. Здесь есть специальная программа. Бэллочка у нас умница...» Наина Григорьевна на пенсии. «Хожу плохо, и сердце. Но там у меня был диабет. А здесь – слава богу». Они приглашают меня к столу. Бэллочка весело звенит чашками.
«... да, так она устроилась. Заворачивать и складывать. Менахель (управляющий) сказал, что она работает лучше всех. И заплатил ей за месяц 24 шекеля...»
Двадцать четыре. За месяц. Пересказывал потом израильтянам. Не верят.
10 агорот (в 1 шекеле – 100 агорот) в час при минимальной гарантированной часовой ставке – 5 шекелей.
- Почему же вы не пошли ругаться?
- Ну, что вы… Все же работа…
Я снимаю на видео. Наина Григорьевна передает моей маме живой привет, приглашает в гости. Бэллочка улыбается…
33
Луна, полная и ясная, освещала тахану мерказит, каждый ее закуток, отчего автостанция лишалась воровато-зоркого сквознячка, характерного для отечественных вокзалов и рынков. Беспокоиться было не о чем, и сначала он меня, а затем, изучив расписание, – я его, а под конец снова он – провожали и провожали. Тут уже я уезжал, а он оставался, и ночь, сокрывшая остальной мир, и уснувшие, безмятежные ряды автобусов, и луна, взявшая двух актеров в самом что ни на есть – разгримированном виде, отчего и реплики были забыты и советы автора – эти двое молчали, то есть какой-то разговор шел, замедляя шаги.
Он попросил передать маленькую посылочку дяде Мише, и я с радостью согласился, потому что мне хотелось хоть чем-то помочь, облегчить, хотя бы этим.
Пожимая руку на прощанье, я понял, что сердце прижилось, а будет болеть или нет – не так уж важно. Проколесив по свету, блудный сын возвратился домой и принес с собой пустую котомку и два контейнера савланута, опыта и доброты и потому его усаживают в красном углу и обносят блюдами первым. И все смотрят, как он кушает бульон с манделах, и шейку, и на второе – рыбу-фиш, настоящую, и рыбные котлетки, и его никто не торопит – рыба! – и бабушка заносит компот с коржиками, и наступает время рассказывать…
(Это было счастье – провожаться тогда, в 1992, когда все еще было в памяти, и Киев, и молодость… Не тяготились…)
Ты вернулся! Ты вернулся?
Непонятно. Хорошо!
И разделся. И разулся.
И уселся. И — пошел!
И помчался, как собака,
Из Ерушалайма — в Цфат,
Через Яффу, через Акко,
На Бершеву и Эйлат.
А когда на море Красном
Обалдев, на бережку
Ты присел такой несчастный...
К этим таинствам причастный,
Я спросил: — Еще чайку?..
Предположим, ты вернулся.
Чаю крепкого надулся
И трепался до зари,
И до пузырей земли
Доходил высоким штилем,
И, смеясь над изобильем,
Объяснял моей звезде:
— Надо — жить!
А хоть бы где…
…Ну, а так как не вернулся,
А уехал далеко,
Не разделся, не разулся,
И не стал моих стихов
Слушать,
То есть — там остался,
Марка! Свет моей души!
Как бы ты ни исписался —
Мне хоть изредка пиши.
Чтобы ждал я, как собака,
И встречал, щеняче рад,
Весточку с пометкой «Акко»,
Марку с видом на Эйлат.
Эпилог
Прошли годы…
Ручеек писем и имэйлов иссох. Могу поделиться слухами, не более.
Циля в Канаде. К нам пока не может. Зато собиралась на 2-3 месяца в Бат-Ям. «Хочу отдохнуть, - писала она маме в позапрошлом году, - среди людей. Проведать Изю (любовника).» На фото – бодрая, задорная блондинка (а ведь она – с 26-го года!)
Лилька вышла замуж. По другой информации – два или три раза. Ждет операцию на глазах.
Стасик окончил Технион. Работает на фирме. Дедушка, слава богу, еще жив.
Надины дети отслужили в армии. Старший работает в миштаре.
Толя – перебрался. То ли в Иерусалимский, то ли в Тель-Авивский госпиталь. Много ездит. В Одессе был два раза.
Марик…
Слухи противоречивы. По одним – член жюри КВН, издал юморески на иврите. По другим – то ли безработный, то ли бомж.
Циля писала – в кибуце, статистиком.
Кто-то говорил: дети, счастливый семьянин. А другие – бобыль, половой босяк.
По одним сведениям – скорее жив. И по другим – жив, но висел и был вынут соседями из петли, висел над пропастью – то ли финансовой, то ли параноидальной.
Главное – жив!
Что ж… Значит, надо ехать. Нет-нет, в гости, только в гости.
Постскриптум
Да, я съездил еще раз. Сразу, как только отменили визы.
Впрочем, еще раньше, каждый из них приезжал в Киев: кто-то выступал с гастролями, или издавал поэтический сборник, или продавал квартиру, оставленную отцом, или к маме...
1
Сема, папа Марика, не поехал. Он сказал: «Ну, допустим, квартиру я продам. А кто будет к Элочке ходить? Пушкин? Или я могу рассчитывать на Мишку?»
Мишка, Элочкин братец, нигде ни работал и последнее время жил где-то в лесу: не мог выгнать из своей квартиры квартирантов, которые платили (если платили) самогонкой. Нет, на Мишку расчета не было. Но Сема и так бы, я думаю, не уехал, потому что в отличие от «там» - «здесь» имел, как он говорил, кормящий бизнес - ремонтировал велосипеды и всякое разное на дому.
На похороны Марик не успел, то есть на кремацию. Прилетел на день позже, и дядя Миша повел его забирать урночку. После поехали к нему, к Мише. О поминках речи не было. Друзей не осталось. Метизный, где до пенсии работал отец, лет десять как приватизировали. То есть ни профкома, ни денег на погребение. Подхоронить решили у мамы, на Берковцах. Выпили по три рюмки.
- Ты не думай, - уверял Миша. - Ты увидишь, и могилку приберем, оградку покрасим, цветочки сделаем, все... Но у меня денег, сам видишь, - разводя руками, показывал дядька, что имеется в комнате, вернее - чего не имеется. И Марик не задавал вопросов насчет того, куда делась трехкомнатная на Паньковской, и почему они сидят в гостинке на Борщаговке, на пятом без лифта...
- И ты дал? - поинтересовался я, когда уже под вечер мы с Марком встретились у дома, где жил отец.
- Он сказал, что пришлет фотографию. Могилы. Будет присылать... Так, посмотрим?
Квартира. Дом. Здесь родился и пошел в школу, и в армию, отсюда хоронили и деда и маму. Теперь задача - продать. Две комнаты, шестой этаж, мансарда.
- Лифт - это хорошо. А вот мансарда - на любителя. Бывает, готовы даже больше платить, а бывает - снижает. Крыша, не знаешь, не течет?
Марк покачал головой, думая о чем-то своем, и я переспросил.
- Сейчас посмотрим. Отец об этом не писал, - открывая дверь, проговорил он, нащупывая выключатель. И невольно пригнулся, когда лампочка загорелась. С потолка, со стен, с длинного платяного шкафа, занимавшего полкоридора - сплошь над нашими головами нависали колеса и рамы, рули и цепи, комплекты тормозных тросов, шины, покрышки, багажники, насосы и разнообразные трубки, полосы алюминия, мотки проволоки и провода, рейки, пружины, куски дерматина и кожи, фанеры и оргстекла, и еще многого, что может пригодится для ремонта велосипедов разного возраста, а также колясок, детских и инвалидных, тележек-»кравчучек», и пр. и пр.
Пригибаясь, мы дошли до комнаты, оказавшейся еще более захламленной, то есть оборудованной под мастерскую. Все было заставлено, кое-где - до потолка. Сервант - лишенный стекол, заднего зеркала, хрусталя и сервиза «Мадонна» - служил стеллажом для коробок и коробочек с винтами и гайками разного сечения, гвоздей, шурупов. Рядом на раскладном когда-то столе было установлено сверло по металлу. Тумбу под телевизор занимал аккуратненький, видно не так давно купленный токарный станочек.
- «Станочек - конфетка», - проговорил Марик, и я, не расслышав, переспросил, но Марик, минуя большой обеденный стол с прикрученными тисками, в центре которого на боку лежал красный импортный велосипед, полуразобранный, сдвинув единственный стул, уже протиснулся, и стал на пороге второй, девятиметровой, превращенной в склад, куда вообще нельзя было зайти, если не двигать, не ворочать какие-то бойлеры, корпуса, кинескопы, связки книг и, конечно, велики и их части.
- «Вагончиком» - это хуже, лучше бы «распашонкой».
- Кровати нет.
- Кого?
- Кровати...
Мы двинулись обратно, но ни кровати, ни раскладушки, висящей, как бывает, в коридоре, не нашли. Ее и поставить негде.
- А кухня?
Кровать, вернее кушетка была прикрыта прожженным в двух местах баевым одеялом. Кроватка была короткая, точно детская, узкий матрац свисал по длине и загибался в изголовье.
- Садись, - сказал Марик.
И я сел, но не на кровать, а рядом, на табуретку.
- Кухня 4,5 м, хотя бы пять-шесть...
Но он, кивнув, не дослушал, вышел в комнату и вернулся со стулом. Сел. Опустил, отвернув от меня, голову.
- И ремонт...
- Ремонт...
Вдруг он пересел на кушетку, и стал оглядывать потолок, моргая и щурясь.
Потолок давно не белили. Над плитой закоптилось... Хотя нет, на потеки как будто не похоже.
- Ну, что ж, крыша не течет. Это хорошо.
Марик, казалось, не слышал. Я перехватил его взгляд. Рядом с плафоном можно было различить следы пальцев, будто кто-то подпрыгивал, пытаясь дотянуться.
Нет, он бы не допрыгнул. Ни сейчас, ни тогда.
Невысокий папа поднимал его повыше, на вытянутых руках, чтобы Марчик достал до потолка, достал сам, своими пальчиками.
- Да, не похоже, что течет. Потеков нет... Так, сколько, ты думаешь, можно просить?
2
Изя
…А как он показывал рака?!
- А таракана опрысканного!
Вся компания:
- Изя! Изя-а! Покажи рака!
И замирала.
И прыскала.
И хохотала…
Изин рак
Делался так:
Две дули приложите к глазам
И моргайте!
И шевелите большими пальцами дуль!
А также:
бровями,
губами,
кто имеет – усами,
кто умеет – ушами.
Попробуйте сами!
Ну, вот! Почти как у Изи!
Конечно, у него была физия
И без рака…
А как он, собака,
Показывал таракана!
После рака народ кричал:
- Изя! А таракана!
И тот подходил к дивану,
Присаживался на диван,
И обводя присутствующих:
- Ась? Меня отравили? Или?
Брык на спину,
Ручки, ножки подымет,
Скрестит.
Губки вытянет жалостно.
Глазки вбок…
Ясно, ясно:
Вот-вот
Умрет.
И дернувшись еле:
Раз… два…
Застывал.
Голова
Медленно,
За ней – все тело
И лапки валились вбок…
Итог:
Умер таракан.
Жалко очень…
…А мы – хохочем!
Что еще об Израиле Евсеиче?
То ли на севере,
В Хевроне,
То ли на юге,
В Ашдоде
Жил один.
И помер один…
Но когда с работы приходит мой сын,
И сначала - рака.
Потом – таракана опрысканного,
А мы с внучкой замираем.
И прыскаем.
И хохочем:
- Очень!
- Ты молодец!
- Очень, очень похоже.
Почти как у Изи…
Почти…
Вот и память его почтили.
Или?
3
И я продолжаю писать об этом.
Славе Винтерману, приславшему мне
«Игры слез», книгу своих стихов
Так случилось – поэт уехал.
Но – недалеко, недалеко…
Нынче расстоянье не помеха –
Интернет усиливает эхо –
Слово отзывается легко.
Отчего же сердце замирает?
В Киеве – родился. Проживает
В Иерусалиме. А живет –
В русском Интернете.
Жизнь идет.
Жизнь идет! Строка его крепчает…
И седых волос не замечает.
- А обняться?
- Мы же мужики...
- А пожать? Обняться? Пошататься?..
Почему-то надо возвращаться…
Но – не далеки, не далеки
Наши острова, имэйлы наши.
Слава! Марик! Сашенька! Аркашка!
«Игры слез» - для вечности храня –
Братцы! Приезжайте! – для меня.
4
Кажется, трудные времена остались позади. Есть работа, достаток. И родители рядом. Подрастают дети, а у кого уже и внуки.
- Ну и что, что они не хотят по-русски. Большое дело! Что мы? Главное, чтобы они были счастливы.
Да-да! Это Циля. Я узнал ее на пляже, в Бат-Яме. Живет по-прежнему в Канаде, а отдыхает здесь. Изи Цилинова, правда, уже нет. Но Владимир Ильич (Володя!) по-прежнему приходит в семь так примерно утра, и рассказывает ту, что вчера. Сериал продолжается...