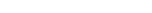Мечта Исаковича
Иван Осипович Исакович к этой национальности никакого отношения не имел. Некоторые даже думали, что он белорус, поскольку жил в Белоруссии. Родился он на Украине, в Лохвице, городке, как известно, местечковом, но ни бабки с характерной фамилией, ни прадеда-шинкаря в роду не помнили. И внешне как будто типичный русачок: глазки капустные, белокачанные, все остальное белобрысое, бледное и курносое, тело мелкое. Хотя, внешность еще ни о чем не говорит. Если взять, к примеру, Шендеровича или Карцева, и обесцветить все что возможно, включая лишний вес и нарочитую браваду, что-то все-таки останется – наивность, задумчивость, тишина?..
Кроме фамилии, была у Исаковича мечта – объехать вокруг света по 37 параллели. Да-да, той самой. Из «Детей капитана Гранта».
– А что – нельзя? – спрашивал.
И выцветшие глазки его густели и золотились, прямые волосики курчавились веселым ветром, ноздри шевелились и нос, и вся его внешность приобретали какой-то индейский оттенок.
– Почему нельзя? Пожалуйста, сколько угодно. Хорошая мечта. Чистая. Такая и должна быть, наверное. Незамутненная, потому что неисполнимая. Тут в Болгарию – одна путевка на объединение. А туда?! Вокруг? Не смешите, ради бога. Я уже не говорю о деньгах.
А Исакович верил. Со школы еще, повторяя весь маршрут в таких подробностях, что даже Семен Наумович, учитель географии и химии делал удивленые губы.
Тогда же примерно и появилась у него привычка насвистывать и напевать что-нибудь из Дунаевского. Воскресное утро встречалось обычно «Веселым ветром», внеплановая проверка – тревожным мотивом увертюры, а «Капитана…» – и дочке, готовой захныкать, и себе под нос:
– Ту-ту-ту! Ту-ту-ту! Ту-ту-ту–Ту!.. – трубил подчас и безо всякого повода...
История с фамилией началась у Исаковича еще до рождения. Во время оккупации семью дважды включали в списки на что-то совсем нехорошее. Но оккупанты, осмотрев отца, такого похожего на своего будущего сына, аккуратно Исаковичей вычеркивали, не находя ни первичных, ни вторичных расовых признаков.
В 53-м их снова – и октябренка Ванечку – включили в списки, уже наши. Никаких справок Исаковичи собрать не успели, надеясь на свою внешность, но в то время били уже по паспорту, а там – «Исакович», и кто знает как бы вышло, если бы «окончательное решение сталинского вопроса» не случилось раньше, чем тот успел свое...
Служил Иван примерно, и хотя просился на флот, а взяли в стройбат, учетчиком, не расстроился, с дедовщиной не сталкивался, за фамилию не гоняли, и только подполковник Иронишвили донимал:
– Ну, что ты так за нее держишься? Мы в партию хотим тебя, а это... Зачем? Начнуться вопросы, запросы. Пойди, поменяй. Имеешь право. Был Исакович – стал Иванович. Тем боле абидно – графа «националност» нормальный, а это… Ну?!
А Исакович… Короче, в партию его приняли и так; помурыжили, но недолго. И в вуз поступил с первого раза, в Белоруссии тогда меньше всего придирались, и получил бы диплом с отличием, если бы не проректор, не ветеран и орденоносец Абрам Шлемович Флеешмахер–Юдовский:
– И что – что отличник?! Большое дело! Из-за таких весь народ страдает. Давай или туда, или сюда. А то графу сменил, в партию записался, а фамилию не успел?!
И влепил ему четверку на госэкзамене.
Думаете, Исакович сильно рассторился? Не красный, так не красный. Большое дело… Есть на что обращать. Э–э…
А мечта жила своей жизнью. Хлопот не доставляла. Тем более кроме Ромки, ближайшего друга, и Семена Наумовича, о ней знала только Галя, соседская девочка, в которую Исакович был тайно влюблен, и при случае пересказывал ей целые страницы.
Галя слушала. И до армии, и после.
На третьем курсе Исаковича включили в резерв на отправку в ГДР, по студенческому обмену.
– Ты у нас в числе первых, – успокаивал парторг. – А пока присмотрись к ним, к немцам – они приедут в июле, а вы туда в августе. Мол, что за ребята, чем дышат, о чем говорят. Ну, ты понял… Считай это партийным поручением.
И Ваня, конечно же, откликнулся и ближе всего сошелся с Гансом, яхтсменом, ходившим и Средиземным, и даже через Суэц – в Красное… И разработали вместе маршрут – нет, пока что ни по 37-й, туда даже Ганс пока не решался, тут, рядышком: из Ялты, через Босфор и Дарданеллы, затем по дороге семь греческих островов, и через Суэцкий канал – в Красное, и обогнув Синай, – в Иорданию.
- Я еще не был в Петре, представляешь? – говорил Ганс, – (и Исакович представлял, ой как представлял...) – А еще хочу в Иерусалим, по святым местам.
– То, что ты, Иван, неверующий, нам известно, – сказал парторг. – Конечно, водить по церквям гостя не следовало, но тут мы на сигнал ответ имеем, а вот насчет Израиля, – в этом слове он делал ударение на второе «и» и кривился, как от изжоги, – мимо этого Израиля я пройти не могу. Честно скажи, о чем говорили…
И выслушав сбивчивый лепет, где были и мечты о 37-й, и маршрут путешествия, снова скривился.
– Скажем так: факты частично подтверждаются. И пойми, если мы разберем на парткоме, – я возьму это на себя, – больше строгача тебе не светит. А через год снимем. А нет – сам знаешь, куда он может написать, если уже не написал, - тогда все, считай невыездной. В лучшем случае! Тем более международная обстановка… И фамилия у тебя, скажем так, сигналу соответствует.
«Невыездной… Какие могут быть вопросы?! Ну, что же, в этот раз не поехал, потом поеду, то есть полечу, поплыву, жизнь только начинается, прав парторг…» И никуда не тягали. Обошлось. То есть и тогда никакого чувства Исакович не затаил, тем более Роман, одногруппник, который «сигналил», тоже пролетел – есть все-таки у нас высшая справедливость, – и через год строгача сняли, как и обещали.
А насчет фамилии… Не думал он об этом – вот еще! – да и забыл об инциденте, годы захватили, студенческие годы, Галочка, стройотряд, женитьба на пятом курсе. И пошло-поехало…
Только когда жена упросила остаться на своей фамилии, Исакович было встрепенулся, но дело оказалось совсем в другом.
– Ты ж пойми, Осипыч, – объяснял тесть – у меня одни дивкы, а мы ж тоже, как и ваша нация, генеалогии нашого роду не цураймося, деточки народятся, а там може одного хлопчика и запишем, Бог даст, як и Гальку – Нэпыйчача, шобы ото, шоб козацькому роду не було того…
Как назло и у Гали рождались одни дивкы, тесть косился, думая, что Исакович специально, якось там – «не способствует».
Ну, что тут сказать?! «Швыцар – и есть швыцар». Исакович не знал в точности, что означает это слово, так смачно произносимое тещей – то ли хвалько, то ли пуриц, то ли просто «мухи в голове», – но почему-то соглашался. А мальчика назвал бы Робертом, – вы поняли в честь кого? А там – Исакович или, бог уже с ним – Нэпыйчача... Какая разница... Э–э...
То есть тестиных косяков Исакович не замечал. Не думал об этом. К тому же увлекся, ушел с головой в работу. И стали выдвигать, назначили сначала замом, а когда главбух уехал – главным бухгалтером всей мебельной фабрики. И сам директор, пожимая и не отпуская исаковичину руку, выразил перед всем коллективом надежду, что «наш выдвиженец не поддастся на сионисткую... и дальше... радовать... нашу мебельную... показателями...»
Исакович кивал. Как-то убеждать уже ни в чем не хотелось.
Что же касается мечты – нет, не оставил он затеи, а наоборот: библиотечку собрал неплохую, и при случае мог о Патагонии рассказывать наверное больше, чем о Беловежской Пуще. Стал понемногу копить денежку, якобы на кооператив, на расширение, но тестя не обманешь.
– Потогониво-потогониво… Шо ж такэ вас гоныть, люды добри, наче шпыня хтось. Вечные тэи... Куды б – тилькы гэть вид риднойи зэмли? Шо там такэ? Тэж самэ. Але в нас краще. Бо наше – зрозумий – цэ свое. Ось що трэба любыты. И нащо тоби однакови кныжки? Га? Осипыч? – говорил он, разглядывая корешки «Детей капитана Гранта», стоящие на полке.
Осипыч разводил руками, улыбался, делал попытку объяснить, мол, иллюстрации, перевод…
Но тэсть нэ чув:
– Людськои квартэры нэма, а туды ж… Дивок настрогал, а квартэры...
И бурчал, как бы про себя:
– Поганэль кирпатый...
Косился.
Годы шли, дети и показатели росли. И даже проверяющие из ОБХСС удивлялись: мебельщики, казалось бы, сам Бог велел, и стоят же кое у кого в городе не польские диктовые, а добротные наши гарнитуры, а от схапиць за руку... Зубр!
– Зубр, – невесело шутил начальник ОБХСС. – Мазги мае, выкруцица можа.
И тесть, давний знакомец того начальника, хитро хмыкал, мол, мы тэж, не абы за кого дочок виддаем. У них, мол, исаковичей, на то жилка, хыст есть, извилина, интэлэкт…
– Да кто ж тябе так навчил химичать? – интересовался обэхаэсник.
А Исакович поправлял:
– Не «тябе», а «вас», – и улыбался, добавляя двусмысленности. – Нас таких, слава Богу, целый народ.
Ему уже и самому доставляло удовольствие шутить на эту тему.
Вам сказать, как Исакович прятал концы? Хорошо. Вся левая мебель – а было ее и в самом деле немного – нужным для дела людям в городке и еще там – главврачу роддома, директору школы, даже тестю (только не этой братии в погонах), – вся мебель была уникальная, клееная из мелких деталей. Улавливаете? О, правильно, мелкие детали легко проносились через проходную, и понять, что это – было трудно. Ну, досочка, крышечка – кто за это накажет, даже если поймают? И собирали прямо на дому у заказчика за выходной. Приехали три мастера с разных концов городка с мешочками, денек поработали – и, ах, чудо стоит рукодельное, подарочное. Вот мастера! Да–а! Иванов, Лещенко и Вуячич – лучшие. А если кто спрашал заказчика: что, да откуда? – «Мужик вез один на подводе. «Купи, говорит». Я купил…» И никто Исаковича и бригаду его не сдал – уважали, понимали, что и детям еще попросят, и внукам…
Себе же Осипыч не сделал. Стоял у него обычный гарнитур – премия за хорошую работу – неплохой, но как Галя говорила: «небо и земля», ворчала, но молчала, тестю-то сделал, не хотел, а сделал. А себе… Э–э…
Потому и мастера переглянулись, когда Осипыч пригласил к себе в кабинет и произнес:
– Так вот, уважаемые, есть просьба. Личная…
И мастера заулыбались, представили, значит, какую красоту они для дорогого человека изобретут…
– А вот эскиз, – улыбаясь в ответ, прищурился Исакович и перевернул лист.
С рисунка на озадаченных мастеров смотрел не сервант или диван, не мебель, а – ни за что не угадаете! – каравелла, парусник одним словом.
– Модель? – спросил Иванов, но уже сам понял, приглядевшись к размерам, – нет, не модель.
– Ну, что, склеим? – спросил главбух озорно.
– Хэ… – мастера задумались. – А чего? Вполне! Когда приступать?
Об этом Исакович только жене рассказал.
– Я, Гала, и имя ему, название придумал.
– Дункан? – спросила жена, не отрываясь от готовки.
– Почти, но лучше – «Дунаевский»! А?
– Нормально. А паруса – по бартеру, на швейной фабрике имени Лебедева–Кумача… С остатков хоть шторы пошью. Кому-то сказать... В доме нормальной мебели нет, а он… – и дальше не продолжала. А потом и забыла об этом, уж очень затея выглядела безумной, малореальной, даже для Исаковича.
Да и сам он дальше разговора не пошел, отмашки не дал. И правда, куда? Моря в Беларуси нет. А если бы и было…
Так незаметно подошла перестройка, грохнул Чернобыль, на фабрике появились какие–то непонятные люди, и первая, кто ощутил перебои в зарплате, стала Галина, начались упреки, пока наконец, тесть прямо не намекнул насчет Израиля, – с правильным ударением, – мол, чего сидеть, сначала вы, потом мы, хфамилия подходяща, и у меня в загсе конец, была бы хфамилия, а графу выправим. Давай, почынай…
– В Израиль? – оправдывался Исакович, – языка не знаю, в бога ихнего не верую. И что я там буду делать на старости лет? Здесь хотя бы на пенсию я уже наработал. А там?
– А здесь? – парировала жена, – Ты что не понял, что этим новым твоя фабрика нужна как прошлогодний снег. Раз-два – продадут, что можно, и ищи-свищи. Я этих рабиновичей за версту чую, – ляпнула Галина.
– Вот! – подхватил Исакович. – А там? Что, думаешь, другие? Такие же, и я им точно так же нужен. И потом тебя могут не пустить. У меня хотя бы фамилия…
– А я жена еврея! И могу стать еврейка на месте, говорят, ради детей это надо. Только экзамен сдать – гей-юр, – я все узнала, на знание иудейских законов. Так что я законы не выучу? И потом, – Галя вынула главный козырь, – оттуда куда хочешь можно поехать. Имей ввиду.
И Исакович задумался.
Мечта – штука живучая. Никакие тебе перестройки, кризисы, революции мечту не отменяют. Откладывают – это да. Но настоящая мечта от этого только крепче. Закаленнее.
Документы собрали быстро, за какие–то полгода. Тесть как заведенный носился. В суде – насчет записи, что бабка Исаковича была Бланк, – за неделю обернулся. Боялся, лавочку могут прикрыть.
«Вот оно как, – думал Иван Осипович, глядя на тестину суету. – «Бо наше – це свое»... Как теща про него казала?... Козак?..»
«Завтра – в посольство. Или в консульство, черт их разберет. Папка готова, – Исакович глянул на папку. Глянул без энтузиазма. И встал, вышел из кабинета: - 11.00. Пора проветриться, пройтись по цехам».
Эта привычка появилась у него недавно, когда старый директор уехал и хозяева прислали какого–то мальчика, но все бегали по-прежнему к Исаковичу. И надо сказать, обход этот, чем–то похожий на больничный, пришелся по душе, стал привычным, необходимым. Попутно он замечал, требовал исправить, наладить. Но удовольствие получал от другого. На складе сырья его встречал запах древесины – чистый, сырой и едкий, с тонкой линией формальдегида (так пахли ДВП), а дальше по цехам – запахи стружки, сухой древесной пыли, олифы, морилки и лака почему-то притягивали корабельное, надраенно–палубное, куда примешивался и шлепок серой и сырой парусины, и витая фактура каната, до боли стиравшая ладони, и соль на лице, и свежий, как нашатырь, ветер, и его песня.
…Как об этом узнали на фабрике – или тесть болтанул, или Галя во дворе расхвасталась, – не знаю. Только после обхода заглянул в кабитет Иванов, один из его мастеров, и нагнувшись к нему, спросил:
– Так это, Осипыч, а с этим-то что делать… Ну, с «Дунаевским»?
– С кем?
– С парусником, с яхтой. Мы тут потихоньку, в гараже храним, у Вуячича, он у него теплый, сухой. Корпус почти весь, и киль, и шпангоуты, палубу начали…
– Ту-ту-ту! Ту-ту-ту! Ту-ту-ту–Ту…! Нет, он бы не решился, если бы не Чернобыль. И хотя после аварии прошли годы, при западном ветре они с Галей по-прежнему закрывали форточки и, уставая девчонкам объяснять, злились, расстраивались, возвращались к теме, в которой именно Чернобыль мог оказаться последней каплей.
В конце концов все можно перетерпеть – и кризис, и власть (если, конечно, не убивают), и народ, – как-то допривыкнуть, обойти и строить свою мечту из неучтенных остатков.
– Э, Гала... – включался в разговор Исакович, когда отмалчиваться не удавалось. – Э–э... – не такая уж дыра наша дыра, кругом то же, исключая разве Прибалтику. И, кстати, там тоже сейчас, я вот читал...
– Что ты читал? Он читал? Тебе тут напишут, – повышала тон Галя, – всю жизнь писали на плакатах – светлое... наша мечта... моральный кодекс. Тьфу! Прости господи. Мечтатель! А вот радионуклиды... Это тебе не байки, не фантазии. А у нас три девки, кого они нарожают? Я даже мечтать об этом боюсь.
Исакович слушал. И постукивая пальцами по столу, волей–неволей соглашался. Что ж, тут она права, мечта у нас, а не родина, мечта, и чем больше мечтатели, тем дырее, тем...
– Завтра пойду подавать. Решил...
А наутро – да, бывает и такое – на фабрику прибыли новые хозяева и первым делом, войдя в кабинет – вручили ему, Исаковичу, подарок – подзорную трубу, большую, отливающую закатным золотом, точь-в-точь как у Паганэля, и недолго рассусоливая, предложили партнерство: должность генерального, процент от всех доходов, солидный пакет акций, командировки за рубеж...
Вот так… И главная причина отошла в сторону. То ли дуть с запада стало меньше, то ли решили брать только проверенные продукты – теперь такая возможность есть, – и воду только в бутылях, нашу артезианскую, и о форточках почему-то забыли, и чернику и клюкву в лабораторию не возили, сначала спрашивали – откуда, а потом успокоились...
Тесть, когда узнал, какие деньги платят Галькиному Поганелю, виду не подал, а про выезд замолчал, казалось, навсегда.
Вам интересно знать, достроил ли он корабль? Обождите минуточку, есть более важные вещи. Какие? А то, что дочки Исаковича одна за другой полетели замуж. Именно не выскочили или вышли, а полетели. Старшая Марина – в Германию, средняя Альбина – в Израиль. А младшая, Милочка, – о, это важно, это история так история, – Мила вышла за итальянца, причем не за какого–то там затрушенного корсиканца или даже римлянина, а за жителя Палермо – есть такой район в Буэнос-Айресе, за аргентинца, значит.
– Ну, Милка! Ну, девка! – восхищался тесть. – Батьку обскакала. Чуешь, Осипыч! Га!?
А Исакович не удивляется. Если кто и не удивляется, так это он, с кем же как не с ним протопала Милочка всю Патагонию, можно сказать, своими ножками. И горы, и пампасы, и всех животных, и озера, и реки – все Милочка запомнила. Потому Джузеппе ее и поразился, что он сам, может, меньше знает о родине, чем какая-то заморская деваха...
– Ага! За мозги! – У Гали свое мнение. – Тоже придумал, на мозги он позарился. Девки хороши! В наш род, в Нэпыйчачей пошли, вот он и попался, пиццаед... Не, я к нему ничего не имею, мужчина как мужчина, только фамилия какая-то... Нет, чтобы Ботичелли или Донателли. А то Белькантор. Что такое Белькантор, кто такой Белькантор?
И все-таки это не конец истории. На старости лет Исакович таки поездил – сначала на «историческую родину», потом – наоборот, и наконец Мила, младшая, обжилась, родила девочку – и стала звать к себе.
– Визы не нужны – я все узнала, лучше всего через Турцию, так дешевле, – Галя только что закончила разговор по скайпу, и все у нее уже спланировалось. – Значит, 2-3 недели; сначала у них на ранчо недельку, а потом – они уже все заказали – водопады... э.... Исакосу, или как... красоты, говорят, неописуемые, а потом в горы, в твою Патагонию! Да ты не рад, что ли? Ты чего? Может еще – Милочка сегодня сказала, – может, нам понравится, так и на дольше можно остаться, а то и – тоже она сказала – внучке ведь нужны настоящие дед и бабка, а не нянька, – может, и останемся. Милка сама так сказала, я за язык не тянула. Ну?
Исакович слушал. И молчал.
– Ну, что ты молчишь, как покойник. Что? Что уже не так?
И в самом деле, что не так? Он представил, как выйдет из самолета, и еще не доходя до паспортного контроля, зазвучит в нем увертюра, та самая – тревожная, зазвучит так, что губы сами затрубят, и пальцы забарабанят по доске под окошком пограничницы, и она глянет на него с удивлением, с улыбкой возвращая паспорт. И они поспешат за багажом – вон Милка! «Милочка встречает!» – запищит Галя. И несмотря на встречу, на объятия, на перехваченное горло, мелодия все равно вырвется, и он запоет, не взирая ни на что, вголос, пританцовывая, а все будут смотреть на него, как на идиота...
«И что дальше? – думал Исакович, представляя счастливое патагонское времечко и организованные экскурсии. – Э–э, уговорят ведь, как пить дать уговорят. А тут кризис. Мебель наша идет хуже. Нужна модернизация…И на «Дунаевском» – совсем ничего – клотик осталось да пару рей на фоке, и можно собирать… Как же?.. Уехать?.. Из мечты?..»
Вам интересно, что было дальше? Не было, а будет. Средняя дочка, Альбина – из Израиля в Австралию собралась. С семьей. Муж получил работу. Догадываетесь, на какой параллели?