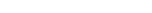Гора Моисея
Синай – море, застывшее в камне.
Горы поставлены тесно и вровень, как шатры переселенцев.
Нет меж ними привольных долин, разноцветных квадратами наделов, а есть ущелья, каньоны.
На небе – ни облачка. На земле – ни кустика. Солнце течет по склонам, растекается у подножий. Жара.
В этом пекле долго не протянуть - проходит в мышцы, в кости, идти трудно, дышать тяжело.
На обратном пути, в раскаленном джипе стало плохо. Насилу добрался. Жар сменялся проливным потом, жестоким ознобом. Два дня меня ломало, лихорадило.
А на третий – пришло облегчение. Солнышко улыбнулось раннее, с балкона задул ветерок. Полегчало. Правда, ноги не держали. Но к тому времени я решил: на гору не полезу, 28 км – это и здоровому много, а ваучер на экскурсию сдам, отлежусь.
Пошел искать гида. Обычно они у рисепшн крутятся. А моего нет. И «мобилка» молчит. В рисепшн недоумение: с утра не было и к обеду не явился. Заходите вечером. Хорошо, думаю, сдам ваучер перед ужином.
И тут, ковіляя к себе в бунгало, я нахожу посох – легкий, прочный стебель подсолнуха, высоленный в волнах и высушенный под солнцем – чудный пружинистый посох, нижний конец которого я тут же укрепил кусочком шланга для полива, чтоб не стирался о камни. Я потряс им и понял – єто неспроста. Надо идти. И перед ужином гида не было. Автобус пришел вовремя, в 23.30. Собрал еще четверых и повез в ночь.
Кто же такой Внутренний Голос? Ангел-хранитель? Или демон-искуситель? Путешнисту отличить просто. Если говорит: Иди! – значит - свой, товарищ. Мой ВГ сулил и то, и это, не называя, конечно, конкретно, а наводящими. Скажем, «ждут тебя чудеса небесные» и «коснешься камней священных», а в конце, в автобусе уже, добавил «откроется, что есть «терпение». И умолк.
Наш автобус нагнал колонну и потянулся караван в горы, показываясь змеёю на поворотах.
Монастырь святой Екатерины ночью закрыт. На дороге темно, группы движутся друг за другом, медленно, освещая дорогу фонариками. Я пошел вперед, догнал немцев. У них фонарики горели, а мой погас. И я зашагал с ними, так сказать, в их свете. Перебрасывая посох с руки на руку, поигрывая им, шел я на удивление ходко, весело. На меня поглядывали. Одобряли.
Скоро и немцы остались позади. Ноги привыкли, не спотыкались. Впереди, куда хватало глаз, посверкивала огнями, змеилась, уходя в гору, вереница, армия туристов и паломников, в которой, окромя пеших, появились уже и конные, вернее – верблюдные. «Камель, мистер, камель, фай долар, мистер, фай долар». Погонщики кричат, люди смеются, верблюды отстают.
К трем угомонились. К половине четвертого все чаще обозначились привалы. Сидящие на валуне, просто у дороги. И я почувствовал усталость. Появились тенты, торгующие чаем, кофе, колами и спрайтами. Я взял шоколадку. Но приваливать не стал. Нельзя. Если сяду – точно, не дойду.
Скорость пришлось сбавить. Как начал спотыкаться – вывод один: не части! Ступай тверже, отымай легче. Топ-топ. Топ-топ.
Из-под козырька побежал пот. Иду, дышу, ноги переставляю, а колени дрожат.
Левая, затекать стала, сводить. А тут еще – выбирай: пять км по пологой, либо три по ступеням, выбитым в скале монахами. Уж верно, легкого пути они не искали. Хотя… Два лишних километра… Задумался на ходу. Отер шапочкою лицо. И увидел звезды.
Пока приходилось глядеть под ноги, пока заслоняли козырек и горы, я не видел, не предполагал: они развесились над вершиною Моисея и оказались созвездием Весов, моим, открывшимся впервые.
Любить звезды мало. Их надо знать. Изучать карты. Почитывать легенды. Не вредно овладеть астрологией. И здесь уже без домашнего телескопа никак. У меня дома - «Мицар», добротный рефлектор со 169-кратным увеличением, на балконе. Однако Весы и ему не давались. Висят над самым горизонтом, прячутся за домами. Да и само по себе созвездие невыразительное: ни ярких звезд, ни скоплений, ни туманностей. Одно, что – моё. А здесь – броское. В полнеба. Каждая звездочка – и белая альфа, и голубая – бета, и затменно-переменная – дельта, и тэта, и сигма – каждая играет свое, собственную гамму, и ведет, ведут за собой.
Так, незаметно, я пошел по долгой дороге, по серпантину, многократно менявшему направление. Народ шел молча, слабые отпадали, усаживаясь - кто за чаем, кто просто на валуне. Дорога становилась уже, превращаясь в тропу, и уже двигались цепочкой, обходя привалившихся.
Заметно похолодало. Внизу – +30, а здесь – градусов 5, если не меньше. Когда идешь, не холодно, однака колени мерзли. Шорты не спасали, и я позавидовал паломникам, одетым в длинное, монашеское.
Их становилось все больше. Женщины, девочки в глухих платках, молодые послушники, монахи, священники, ксендзы, пасторы – все они шли не спеша, но твердо, наверняка зная, что дойдут.
А я не знал. Я упал на лавку и, кутая ноги в одеяле, взятом здесь же напрокат, тянул чай с тремя ложками сахара, грыз для сил шоколад, понимая, однако, что – всё, как говорится, приплыл, буду здесь, эти ступени – здесь начинался последний участок – эти 789 ступеней – нет, не-ет, уже не мне…
- Что, милок, пристал?
Рядком на лавку опустились паломницы. Ближайшая – старушка, махонькая, горбатенькая - глядела на меня снизу, вздыхая, приходя в себя.
- Ох, пристала кобыла, что до Киева сходила… А вить – на этом не устанешь - так на том не отдохнешь… Дойдешь! - глянула на меня ласково, улыбнулась. - С такою-то палкой - дойдешь…
И подхватилась, поковыляла первая, взбираясь на каждую ступеньку особо, как малое дитя, в два шажка, но споро, ловко, не задерживая общего движения, успевая и палкой впереди постукать, по следующей, потому как на зрение, видать, надеялась не слишком.
И я пошел. Следом за нею, приваливаясь, унимая дрожь, переводя дыхание, как и она. И дошел, забрался наверх, заглянул в церковку и, отыскав местечко снаружи, устроился я меж людей, вповалку, укутался в одеяло и стал ждать.
Тихо просыпался Синай. Звезды стаяли. Небеса голубели. То ли туман, то ли сумерки хоронились в межгорьях. Дали лежали в дымке. И лишь на востоке светлело, восток уже копил, уже ждал, как набросит и примет бегущие тени, и озолотит главу первыми радостными лучами.
- Боже мой! Боже мой! – думалось мне, - Неужели я мог не пойти, не дойти, не увидеть?! Сколько раз искушение подползало ко мне, но каждый раз находилось слово, или звезда, или старушка, каждый раз посылалось нечто, помогавшее мне. Слвно кто-то звал, кто-то тащил меня за Собой, но так деликатно и ненавязчиво, с такой нежной улыбкой, являя истинную Любовь во всей ее чудесной деловитости.
«Коль на этом не устанешь, так на том – не отдохнешь...»
Но разве на самой вершине думаешь о чем-то?
На вершине - тишина. Вершина отделяет, обводя горизонтом, заставляет снять шапочку и оглядывать мир, состоящий из гор, близких и далеких, и небес, далеких и близких.
Вниз я летел. Сначала по ступеням, танцуя на носочках, как по клавишам. Затем по тропе, срезая углы, обгоняя медленно вальсирующих паломников. И, наконец, по пологой дороге широким балетным бегом в радостной толпе демонстрантов.
Бывали па, когда, оттолкнувшись, опираясь на посох, взлетал я над публикой, возносясь на секундочку в небеса, чтобы восхитить, вернуться и пробовать снова.
Меня приветствовали. И я отвечал тем же. Я вспомнил всё: и «Банзай!» и «Салюдос!», и «Шалом!» и «Бареф-дзес!». И особенно «Па-берегись!», вычитанное когда-то.
Этот полет, или скорее – порхание, оказалось возможным благодаря углу наклона и кривизне спуска, рассчитанным с идеальной точностью и позволяющим бежать, не ускоряясь, т.е. не тормозя и не падая, - именно с той скоростью, с которой обычно передвигаются ангелы.
В гору я тащил грехи и сомнения - а сбросил ношу, и поскакал вниз юным пятнадцатилетним орлом.
«Коль на этом не устанешь, так на том – не отдохнешь!»
Вот о чем говорила старушка! О пути туда, в терпении, в поте лица своего, сквозь тернии – к моему созвездию, и назад, с горки, с пением и танцами, в монастырь! Из ночи – в день. Из вчера – в сегодня. А совсем не о жизни и смерти, не о том свете.
Нечего о том и думать путешественнику с посохом.