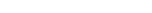Восторг и доверие
1
– Сними ошейник – пригодится для новой собаки.
– Новой не будет. Я уже не вынесу.
– Тот раз то же самое говорила…
– Нет. Мы уже не те. Старые. Маленькую не хочу. А большую – силы не те.
Мэл лежал на полу, положив голову на лапы, тело его еще не остыло.
Бывает так, ляпнешь, не подумав, а потом всю жизнь стыдно. И неясно, необъяснимо – почему ляпнул? Будто не сам – кто-то за язык тянет. И после того как сказал, как выложил эту мерзость (насчет ошейника) вслух – какой-то еще куражок гаденький: решился все-таки! И тут же хочется кричать: это не я! Это мне нашептали!.. А не кричишь – стыдно, и слова не идут…
Поначалу казалось, это мне проклятый подкинул, тот, в кого и не верил даже. А может, и не он. Может быть, сам Мэл и дернул меня за язык, как я его – за поводок. Сколько же я его дергал… И вынюхивать не давал, все торопил – куда?! А в последнюю неделю он не хотел, упирался, а я тащил за собой – и на гору, и в дождь. Не чувствовал, что ему тяжело, подгонял, палкой выпихивал из-под дивана…
Это он мне шепнул. За бездушие мое ежедневное, за то что не раз и не два считал его обузой. И особенно в последние месяцы: он уже не мог держаться, писался с самого утра. А я тянул, будто не мог встать пораньше, и возился с туалетом, и мечтал о чем-то на зарядке.
Вот и отец пенял мне, что опаздываю с выходом. Говорю, мол, «через пятнадцать минут», а сам – двадцать пять, и больше, приходится ждать.
Господи, что ж мы за люди?! Не слышим, не видим… Неужели есть что-то важнее сочувствия. Знаю, что нет, знаю, а не делаю, живу себе…
Этот долг я уже не верну. Ни ему и никому из тех, кого нет, кто ушел из моей жизни раньше, оставляя меня должным.
2
– Какой нескладный! – присев на корточки, сказала Лора.
Покачиваясь на тоненьких ножках, существо косилось то на меня, то на жену, таращилось из-под нависающих прядей, и хотелось отвести их, как-то причесать, потому что глаза, то есть очи – огромные цыганские...
– Подрезать нельзя. Я где-то читала: у этой породы глазки от яркого солнца болеют, закисают, и даже может ослепнуть.
Мэл перевел взор на хозяйку. «Вот кто здесь решает, понятненько, и кажется, она уже решила…»
Прошло три месяца, как Люка не стало. Люка – породистого «немца», красавца и баловня, за которым плакали неделю, и сейчас, глядя на Мэла, первая мысль была о предательстве, о том, что рана еще не зажила.
Люка любили. А как не любить, когда в четыре месяца – первый клещ. И хотя удалось спасти, выходить, задние ножки стал тянуть, бегать уже не мог, заваливало то вправо, то влево, зато грудка раздалась вширь, точно у Васи-Моряка со второго подъезда, безногого инвалида, ловко и даже лихо забрасывающего себя на очередную ступеньку.
«Какой красавец!» – никто не мог удержаться, входя в комнату и первым делом обнаруживая его в позе широко известной фарфоровой статуэтки: Люк поворачивал голову неспешно, с достоинством. Впрочем, он тут же вставал и, виляя припадающим задом, направлялся к незнакомцу, обнюхивал, но не лаял, и выполнив собачью работу, ложился у входной двери.
«Ножки?» – спрашивали обычно. И с этой минуты разговор получался доверительнее и откровенней.
– На верблюда похож.
– А по-моему, на Славку, Нудельмана.
– Ты имеешь в виду глаза или наглость?
– Тише… Он, кажется, все понимает.
– А говорила – ни за что, после Люка – никогда.
– По-моему, он хочет пить.
– И кушать, и всего остального.
Мэл потянулся и лизнул хозяйкину ладонь.
– И хитрый, как Славка…
3
Версия о том, почему его назвали Мэлфином, на самом деле одна. Имя придумал мой сынок, и это единственное, за что пес должен быть ему благодарен.
– А кто принес его? Кто нашел?
– Нашли, допустим, его подружки, вырвали малыша, как гласит легенда, из пасти разъяренных дворняг и всучили тому, кто с полной безответственностью сказал: «Да, у нас как раз сдох…»
– Да, он добрый мальчик.
– Добрая – ты. И я, по необходимости. А он…
– Ты не доволен? Ты только глянь на эти глазены, на эту хитрую морду. У-у-у! – вытягивая губки, умиляется, и собака делает такое же любовное движение навстречу, но от полноты чувств валится на спину, раскинув ножки, голова набок, косясь и замирая в позе полнейшего доверия – ах, чешите, тискайте, целуйте меня везде.
– И ты считаешь, мы могли эту радость не взять?
4
Те, кто меня хорошо знает, поверить этому не должны. Даже если Лора подтвердит, даже если и я кивну, мол, да, ляпнул. Нет, скажут они, мы знаем его многие годы, и даже если и не хватало сочувствия, он сделал бы вид, изобразил бы что-то созвучное на лице и делом постарался бы исправить, компенсировать душевную черствость.
Правильно скажут. Разве не я носил его, измученного очередным клещом – а было их четыре! – разве не сидел в клинике, переживая, дожидаясь результатов осмотра и пока прокапают, проколют; разве не подтирал за ним, ослабленным энтеритом, и рвоту, и понос; разве не стриг, не купал, не выгуливал…
- Хорошо, ты права, кормление, купание, стрижка – в основном были за тобой. Но кто, как безумный, гонялся за ним - и по нашей горе, и по лугу на даче, когда он удирал на свободу?! А кто вырывал его, драчуна и забияку, сцепившегося, визжащего от укусов, кто рисковал нарваться на зубы буля или ротвейлера, или этого безумного черного громилы с третьего подъезда?!
А кто всегда говорил: у нас одна собака, ничего, заработаем, едем в клинику, пусть дорого, но они – специалисты; кто в конце концов давал деньги на все, и на этот чертов ошейник, новый, купленный за пару дней до…
Я по-прежнему не могу выговорить «подох». Понимаю, что «умер» неправильно. А «подох» – не могу. «Подох» – тоже неправильно. Чего-то в нем было больше, чем у нас… Доверия? Восторга?
5
– Папа звонил. Сказал, если он нужен, может помочь, пойти закопать Мэла на Горе.
– Так никто уже не делает. Вызывают бригаду.
– Я вызвала. Если хотим, чтобы его сожгли отдельно и нам дали урночку, – 1000 гривен. А так – 500.
– Зачем нам урночка…
– Я и сказала – 500.
Через день я улетел в Индию. По традиции людей здесь сжигают, а пепел развеивают на берегу реки или океана. И пожалел, что не взял урночку.
А можно было бы развеять на Горе или над Лугом.
6
Луг… К вечеру жара спадала, и луг, накопив ее за день, возвращал запахами. Поначалу – душными и медовыми. Только затем, внюхиваясь, можно было уловить что-то еще – полынь, луговую ромашку, коровьи лепешки, разложенные по целине и на тропинке, а после этого угадывался аромат самой земли, чернозема и торфа. Луг местами горел, прогорая на метр и более, и примесь пепла, когда нога вдруг проваливалась и сероватое облачко поднималось над коленом, примесь эта напоминала о пожарах, о дыме, едком, стелющемся, об осени, до которой кажется еще далеко, а запашок уже здесь, неприятный, стариковский.
Это немыслимое соседство – вольного, напоенного цветами и травами ветерка, пьянящего кислородом, и душной, пропитавшей все и вся гари всемирного крематория, - немыслимое и такое естественное, заставляло полнее дышать и острее внюхиваться, идти пружинистее, смелее и отпускать Мэла с поводка.
После всех его побегов и бессовестных обещаний, после всех моих клятв «в жизни не идти у него на поводу», Мэл – различив щелчок карабина – на секунду замирал, не веря своему счастью, и сделав два-три шажка, бросался с тропинки и исчезал в ковылях. А я спешил на пригорок – следить, увидеть, куда бежать, где искать и вопить на весь луг ненавистное в тот момент имя. Сначала он двигался радиально, одними ему известными волнами, убегая и возвращаясь, и пересекая тропу. Голова его была опущена, он был там – под землей – в запахах, в движении живности, напоминая о том, что норные собаки, его родители и предки, ведали о том мире немало и немало завещали ему. Забеги его становились все дальше, и вдруг, уловив чье-то испуганное дыхание, он бросался копать, скрести передними, и помогая им задними лапами, засовывая нос все глубже и глубже, отфыркиваясь и замирая, прислушиваясь и отбегая в сторону, к тому второму, запасному выходу из норки, куда поползла мышка или крот.
Я не помню, чтобы он когда-нибудь кого-то поймал. Ему, я думаю, было довольно «сего сознанья», того, что вот он – плоть от плоти – тот, породистый, норный, и родные смотрят на него с гордостью. А еще, я думаю, он хотя и стремился поймать, но в последний момент забывал о врожденном инстинкте и не посягал на их жизни, понимая, каково им – слепым и зажатым в слоях земли, утопающим во время паводка и сгорающим в торфяниках, каково им по сравнению с ним – вольным, стремительным. И может быть, кто-то, нашептывая, удерживал его от последнего броска, и он поражался тому, что слышит и понимает, и повинуется…
И тогда он, мой недолюбленный пес, фыркнув в последний раз над норкой, как-то странно отпрыгивал в сторону и принимался гонять по кругу, вытянув голову и хвост, наматывая круги за кругами, кренясь от выносящей его центробежной силы и увеличивая темп до совсем невозможного, до безумия, и наконец останавливался, отдышиваясь боками, языком и всем телом, показывая, как ему хорошо…
7
Конечно, мама лучше всех знает, что «солнышку» ее нездоровится, и трогает губами лобик, то есть проверяет, не сухой ли нос, и не мечется, не зная, куда бежать и кого приглашать на дом, а тут же тащит его в клинику, и он упирается, как все дети, но все же идет, понимая, что мама хочет ему добра.
Два последних клеща были «уловлены» еще до того, как он заболел, по самым отдаленным симптомам, и это его спасло.
– Анализы будут завтра, с утра, – сообщил доктор. – Так что привезете завтра, и если что – начнем лечение.
Но Лора сказала:
– Лейте! Сейчас, мгновенно.
И это его спасло. И тогда. И еще раз.
8
«Так свезло мне, так свезло. – думал он, задремывая, – просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире». Нет, это слова не Шарика – Мэла; и ошейник его – не только собачий портфель и паспорт, а в нашей семье еще и паспорт «закордонный». С собой я его не брал, но каждый раз привозил нечто, найденное на морском берегу или в джунглях, на горной тропе или сельском базаре. Вынимая из рюкзака и раскладывая привезенное на журнальном столике, я не замечал, что и он крутится здесь же, и ноздри его подрагивают от стойкого аромата просоленного пла?вника, который он решался лизнуть, или все еще теплого вулканического туфа с Азор или Сейшел, или оловянного амулета, найденного в подземных лабиринтах Куско, отдающего пещерной сыростью, – ему, конечно, все это – ему; куда мне до собачьего нюха…
А я о нем и не думал. Дети, внуки, приходили друзья, и я снова раскладывал свои «драгоценности», и потирая очередной листок пасхианского эвкалипта, предлагая вдохнуть краесветные ароматы, не представлял, что видится, что слышится ему из-под дивана. И куда он будет бежать этой ночью, суча лапами, подергиваясь и постанывая во сне.
Бывало, он засыпал не под диваном, а на коврике, и нельзя было не остановиться, и Лора звала меня шепотом:
– Иди, иди скорей!
– Бежит?
– Ну, иди же…
И мы затихали, точно над детской кроваткой, пытаясь понять, краем какого моря гонит его судьба, куда и зачем, и по чьему примеру…
9
– Что так долго? Опять убежал? Да что ж это такое?! Может, ему какую-то антивиагру подавать?
– Чуть не убил гада. Подбегаю к своре, а он отбегает. Я за ним, а он кругом – и опять туда же. Спасибо, Гена подманил…
– Он его любит, а тебя боится…
– Когда поймал, дал ему, конечно, а сейчас душа болит. Ведь инстинкт.
– Есть, мне говорили, какой-то «антисекс»… Но он, кажется, для кошек…
– Не поможет. Ты б видела: выходим на Гору – и все к нему. Красавец! Гадость такая!
А «красавец» косится из-под дивана. Не вылезает, знает свою вину.
Если бы собаки заводили семью, то он – пра-пра-пра-пра – был бы, наверное, как Адам или Ной, – родоначальником, патриархом, аксакалом, не знаю, как еще назвать, – Акелой целого народа. Только одна Эльза, овчарка при гаражном кооперативе, как кошка влюбившаяся в него чуть ли не щеночком, лет, наверное, шесть приводила от него по шесть, семь, а однажды и двенадцатеро таких умилительных созданий, что разбирали их сразу (или продавали, не знаю), но точно знаю – не топили.
Сторожиха, баба Тоня, любила «свою девочку» не меньше, чем мы. И каждый раз, выходя нам навстречу, наблюдая, как юлит, крутится, ластится до Мэла Эльзочка, – Тоня поджимала губки, и сбросив лет, пожалуй, 45, так вздыхала и охала, что было ясно: и зятя она принимает, и деток, и всякое иное потомство. Думаю, это она в конце концов нашептала Эльке всякие глупости про его амуры на стороне, потому как та стала гнать его, верного и любящего, да так гнать – бросаться, кусать, облаивать, мол, нечего сюда, – как только редкие бабы и могут. Ну, погулял человек немножко, какой ей убыток, что он не казак? Или какой надо быть редкою сучкой, чтобы ни с какой уже другой не делиться, не радовать?
Зато если Эльки поблизости не оказывалось, все его щенячье потомство бежало к папеньке, и с каждым надо было побаловаться, погонять. Мэл не чурался, гонял, валил нападавшего, хватая его за живот или за голову с осторожностью, порыкивал для порядка, когда какой-нибудь внучатый племянник из неразобранных повисал у него на хвосте. Баловал, а вот учить, как вынюхивать, как раскапывать норки на лугу, этому не учил. Элька всем своим сторожевым видом учила ремеслу, а он – нет. И все же, я думаю, Мэл гордился: и собой, и красавицей женкой, и весело бежал к бабе Тоне, чего я лично от него ожидать не мог. Но такое бывало уже не часто.
Дом. Семья, дети… А дерево он посадил так. Нашу ветеранскую площадку на Горе мы пытались спасти разными способами: телевидение, министр спорта, статьи, запросы легендарного генерала и известного поэта-депутата, пикеты…
Гена предложил обсадить ее деревьями, по кругу, неважно какими – фруктовыми или нет, важно – саженцами. «Они увидят, что молоденькие, только что посаженные, – не посмеют. А мы все заснимем, акцию проведем, расскажем об этом».
И вот взялись за дело. Каждый принес по саженцу – и вышло их даже больше, целый гербарий, или как выразился наш депутат – «интернационал». Работа закипела: кто копал ямы, и Мэл тоже помогал, кто придерживал саженцы над лункой, я бегал за водой, и Мэл – следом. Ведра у нас не было, я набирал воду в кулек, каждый раз опасаясь, что вот-вот порвется, что в конце концов и случилось. До последней березки оставалось буквально пару метров. А другого кулька не было.
– Что ж, мужики, – придерживая деревце, предложил Гена, – поможем природе?
И народ откликнулся сразу, увлажняя землю в тот раз не слезами и потом, а весело, по-мужски. И Мэл не остался в стороне.
Слезы были потом. Утром пришли, а все посаженное повырвано, порублено, растащено. Оставили только одну березку, ту самую, у забора.
И сейчас березка стоит. Выросла. Я туда не хожу, противно. Гена рассказывал.
Гору вырубили, устроили стоянку, и мы перебрались поближе к дому, комбинируя для недолгих теперь прогулок три соседних улицы, три тротуара, где собачке, извините, и сходить негде, не то что обзаводиться семьей. Я думаю, что Мэл тоже кого-то из них проклял – заказчиков и исполнителей, – как прокляли их униженные и оскорбленные ветераны, лелеявшие свое детище, свой кусочек здоровья на Горе. А может быть, и не проклял… Но почему собаки должны быть лучше людей?
10
Не знаю, может, теща сказала «покороче», но, короче говоря, сняли они с собачки все, как с овцы, как с пуделя соседского, кобелька, которого он гонял, я теперь понимаю – именно за этот женоподобный прикид, за походочку на-цирлах, точно как и его хозяин, прости господи…
Я же знал, чем этот «салон» может кончиться. Понимал: лишите усов Мимино – и куда спрячется его улыбка? Побрейте налысо Битлов – и куда денется их шарм, харизма, скажу больше – стать. Да что там стать – суть.
Обычный его «прикид» был небрежен, как у истинного мачо. Легкая проседь, бородка а ля д’Артаньян и шерсть, местами закудлаченная, но длинная, как донжуанский список. Уши мы не подрезали, и торчали они каждый раз в разные стороны, отчего и «горцы» встречали его по-разному. Цюцько – солидно: «Ну, козаче?» Серго называл его «птичка моя». А Гена, завидев нас издалека, всклочивал обеими руками свои уже редковатые седые кудри, и присев на корточки, растопырив пальцы, рычал: «А-ррр!» И Мэл, спущенный с поводка, летел навстречу – к нему! – кудлатой и хвостатой кометой…
Его вывели из салона, он дошел до дома, глянул в зеркало и сразу полез под кровать. Вечером выходить отказался. Утром на Гору шел робко, оглядываясь, и не пройдя и половины, потянул меня домой. И только поздно вечером попросился. Мы вышли из дома… и я снова его предал…
А ведь знал, что предавать – плохо. Хуже не бывает. Знал с самого детства: врагов могут пожалеть и взять в плен, и даже иногда за храбрость простить, отпустить. А предателей расстреливают на месте, и так им и надо – предателям!
А тут… На перекрестке Мэл увидел Женю, залаял радостно, завилял как обычно хвостом, потому как не каждому доверяли мы поводок, разрешая и по бульвару вести, и через дорогу. Было время, когда гуляли мы часто, Мэл привязался к нему, и когда Женя вел – шел ровнее, не дергал, и мне даже казалось – прислушивался к нашим разговорам…
Женя увидел его еще с той стороны улицы и вдруг, выкинув вперед руку, тыкая в него пальцем, захохотал, и так шел к нам, хохоча и привлекая внимание. Людей было немного, но и те, что были, – со всех сторон оглянулись на Мэла, голенького, и я, предатель, хихикнул в ответ. Меленько, гаденько. Вы скажете, глупости, ерунда, если кто и предал, – то он, Женька; чего так казниться? Но мне за мой смешок противно и горько… Что – он? Он и не думал, что собачке делает больно, а я ведь уже видел, как Мэл переживает, как плохо ему… Впрочем, страдал он недолго, и Женькин хохот, возможно, пошел ему на пользу. Через пару дней он рвался с поводка и тянул меня на Гору, как раньше. И там встретили его, помолодевшего, совсем другими улыбками. И надеюсь, мой угодливый смешок он забыл или заставил себя это сделать.
Кто-то мне говорил, что слова они помнят плохо, а вот запахи запоминают навек… Интересно, а как пахнут подлость и предательство?
11
С одной стороны – этого быть не может. А с другой, как иначе объяснить? Как?
Мэла воспитала Тави, наша кошка. К тому времени, как он появился, Тавочке было уже лет восемь, и роды у нее были одни тяжелее других, и резали ее, бедную, не раз, вымучили. Может быть, это сыграло, не знаю, может быть. Но смелости, бесстрашию Мэла научила она, привила своим полным безразличием к самым отпетым дворовым собакам. А ее полет с шестого этажа за зарвавшимся голубем, нагло клевавшим из ее блюдца, запомнился всем, и Мэлчику, совсем тогда еще щеночку.
С Серго, близким моим другом и бывшим хозяином Тави, на Горе мы встречались по выходным, и каждый раз «птичке» доставалось, заигрывались они в догонялки, и мяч кидать ему не надоедало, и палочку ему, а не мне приносил Мэл, хотя приносил без охоты, но возвращал, понимая: что-то еще движет моим, а теперь и его другом. Не знаю, догадывался ли мой пес или нет – а деток у Серго не было, не отсюда ли терпение, желание наиграться? И в субботу, и в воскресенье тянул меня Мэл на Гору с особенной силой, и возвращаясь после зарядки, расходясь на развилке (Серго – налево, а нам – направо), все гонял между нами, носился – то к нему, потом ко мне, и снова к нему, и назад…
Почему так вышло, что Серго, Мэл и Тави все вместе дома у нас не встречались, я сказать не могу, может быть, кого-то увозили на дачу или спасали от клеща, но Мэлу было уже года полтора, когда Серго зашел к нам вечером, и Тави, увидев его, тут же кинулась под диван, а Мэл, завиляв хвостиком, пошел было навстречу, но Тави – а кто же еще? – что-то мяукнула из-под дивана, и Мэлфин поджал хвост и полез туда же.
С того дня, по-прежнему забавляясь с Серго на Горе, дома при его появлении Мэл преображался: стоило тому зайти – мгновенно прятался и выползать не желал ни в какую. Впрочем, и на Горе отношение изменилось: за палочкой Мэл бегал, как и раньше, а вот на поводке у него идти не желал, нервничал, косился на меня, теряя весь свой горный кураж.
Что же она сказала ему, отданная Сережиной семьей кошечка, отданная не по злому умыслу, а по причине аллергии на шерсть, обнаруженной врачами у его супруги?
Неужели именно это: бойся его – они отдают, сначала взяли, а потом отдали, меня отдали, вот так он пришел, взял и увел. Смотри, чтобы он не пришел за тобой!..
12
Господи, зачем Ты создал собаку? Чтобы показать человеку, какими могут быть (должны быть) настоящий восторг и настоящее доверие? Доверие, которое глубже и безграничнее самого-самого – горного или лугового восторга?
Или для того, чтобы показывать нам подлость и предательство наше? Боюсь, что в 144 000 праведников люди не попадут. Собаки, слоны, дельфины – возможно, не исключаю и некоторых детей… А взрослым надо разбираться, вынимать из потайного шкафа и выкладывать наружу грехи свои.
Вот и мерзость мою об ошейнике – собачка мне не случайно в уши вложила. Знала: навряд ли он возьмется за перо. Деньги на кремацию даст, и развеет пепел над Горой, а лучше – над Лугом, но развеет – и забудет, забудет быстрее. Мол, исполнил свой долг, чего еще?
Да, Он, как всегда, прав – без совести не было бы ни творчества, ни этого Мира – лучшего, прекраснейшего из миров.
Что же мучило Его, приступающего к Сотворению? Что же там – в Его Потайном Шкафу, Какая Беда? И КОГО Ему Просить о Прощении?
13
– Участковый приходил. По поводу Мэла.
– Мэлфина?.. Элька подала на алименты?
– Соседи жалуются, что он гадит на детской площадке.
– Ну, ты сказала, что мы выходим со двора?
– А папа, когда выводит, сидит на лавочке.
– Так лавочка же не на детской… Ну, посидел старик пару минут…
– А когда дождь – гуляет во дворе. Есть свидетели. И когда Риту выводят, папа его отпускает… Вокруг дети. Я уже не раз ему говорила…
– Хорошо, поговорю.
Риту – из третьего подъезда – мы любим. Такое ласковое существо! Юлит, носится вокруг него, поджав хвост, приглашает побегать. А Мэл потрусит следом и стоит. Что вы хотите, скоро четырнадцать. Старичок. Не видит, слышит плохо.
– Я только вечером отпускаю, – говорит папа. – Когда никого нет.
– Я тебя прошу.
– Вот сволочи! Я знаю, кто это! Из 68-й! Я пойду к ней!
– Я тебя прошу!
– Но сволочи же какие…
Ходить уже не пришлось.
14
Мы сидим на лавочке. Наконец потеплело, небо очистилось, и звезды – голубые, весенние – развесились над липами.
– Это Орион. Охотник. Видишь кинжал на поясе?
– Не вижу…
– А дальше – вон яркая звезда – это Сириус в созвездии Большого Пса.
– Не вижу, – папа всматривается, щурит то правый, то левый. – А-а… вон, кажется, что-то…
– А есть еще Малый Пес. Охотник и две собаки…
– Лора мне сказала, больше не возьмет. Тяжело.
– Да. Мне тоже. Тот раз тоже говорила…
Вдруг кто-то бросается к нам, слышен знакомый щелчок тормоза на поводке, так похожий на наш, – и у ног уже крутится Рита, повизгивая и норовя лизнуть.
– Здравствуйте, – говорит Ритина хозяйка, – спасибо за поводок. Ваша жена отдала.
– Что? Что она сказала? – переспрашивает папа.