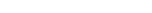За чистотой
- Вы продаете воду в Украине, а фирму назвали «Аляска»?
- Для меня Аляска – символ чистоты.
Из интервью
Пролог
До чего есть назойливые мухи. Раннее утро, в доме и за окнами тишина, самое время писать, а она подлетает и жужжит, и садится всеми шестью щекочущими лапками, мешает. И я уже не отмахиваюсь, и не кричу на нее, и отчаявшись выгонять в раскрытое для этого окно, говорю: «Убью!», говорю вполголоса, жестко. И должна ведь уже понять, что не шучу: «Убью, зараза!»
А знаю, если убью, пожалею… Кто знает, что в этом мире важнее: мои мысли или эти строки, или ее - мушиная – жизнь, ее полет... И знать этого нам, слава богу, не дано.
А Матанушка, говорят, знает. Есть на Аляске такая: и провидица, и целительница, и не знаю, как еще назвать, чтобы не обидеть. Говорили о ней и в столичном Анкоридже, и в Талкитне, и в Нинильчике… Разное говорили. Кто называл ее индейской шаманихой, кто «ведмедихой», а кто (скажу по секрету: надежный один человек) - «агентессой», и советовал никаких гешефтов с ней не иметь. Но больше всего озадачился я, когда и в Интернете ничего путного о ней не нашел. И обиделся, решил иначе как «инетом» его не называть, и к тому же писать с малой буквы. Что же до Матанушки, даст бог - повидаемся.
Почему мы отправились на Аляску? Во-первых, потому что – далеко, полсуток разницы, край земли...
- Пока молодые – надо ездить подальше.
- Это ты - молодая…
- А ты что? Тебе никто твоих лет не дает.
- Ну да… Что вы, говорят, в ваши 120 вам больше ста и не дашь…
- Правильно, и не дают, - перебивает Лора, кажется, безо всякого подтекста. – Посмотри на себя – орел! Представляешь, я читала в инете – там можно недорого на маленьком самолетике, как птица, я читала, взлетел с одного озера, полетал над снежными горами, лесами - и на другое озеро, там порыбачил, и дальше… И самое главное - тишина, людей нет, есть места совершенно безлюдные, мы одни, я читала… Да ты меня не слушаешь! Ты уже там?
Я уже там.
Как сюда добраться?
«Поехали!» – сказал Гагарин, отправляясь в полет. Это про нас. Если бы Лора могла, она бы поехала машиной. Корнелиус, байкер, мой седой ровесник, которого мы встретили в одном из мотелей, повсюду таскает за собой – нет, не жену, - свой любимый БМВ. Он – путешист: накручивал мили - тысячи миль! - и по Южной Америке, и Африке, и даже по России.
- А не страшно, одному?
- Нас двое… «Бою» уже хорошо за шестьдесят, а у байков надо считать год за три, - говорит он с гордостью и за немецкое качество, и за себя, внимательного и заботливого. – Жена не одобряет мою мотосексуальную привязанность, но понимает. Вот у меня стартер забарахлил, так она выслала новый. Почтой. Получу, заменю. И – полете-е-ел! Я сам все сделаю, каждую косточку и трещинку в нем знаю, - говорит он с любовью.
Лора тоже любит свою «тойотку», но не настолько, чтобы платить почте за доставку. А плыть, даже на круизной «Принцессе», даже вдоль берегов, – боится. Как, впрочем, и летать, но тут деваться некуда. Итак, туда и обратно мы летим, а там авто в аренду, и – аля-улю!
Когда-нибудь мы тоже на Аляску покатим – на восток, по России, через все Поволжье и Урал, там, в Ульяновске и Перми у меня родичи, - и дальше по Сибири и Дальнему Востоку, туда – на Чукотку. И может быть, нам тоже будет везти на людей. Ни криминала, ни продажных ментов, ни власти, разделяющей русских и русских… А там – паромом… Сколько же мне тогда будет лет? Двести? Пятьсот? Встречу Матанушку, обязательно спрошу. Обязательно.
Наша команда: Миля и Оксана
- О, опять «ниссан». Как в Норвегии, - заметила Лора почти без эмоций.
А я вспомнил, как запутанная в горах одуревшим навигатором, виляя над обрывами и скрипя тормозами, машинка наша то и дело повизгивала.
– Спок-койно! «Нис-сан»! - бросала Лора.
И потом, когда вползали во мрак многокилометровых туннелей, цедила:
- Спокуха! «Ниссан»!
Безымянное «ниссан» звучало двусмысленно и грубо, имя ему мы почему-то не дали, хотя чем оно хуже «Титаника»?
А здесь, на Аляске машинку мы назвали Миля. Нежное название, и мужское и женское одновременно, ласковое. А как иначе?! Сколькой ей, терпеливой и безотказной, пришлось выслушать и нашей болтовни, и Оксанкиной. Нет, с Оксаной, с джипиэссой, отношения у нас тоже сложились неплохие, она только поначалу путалась, пугая нас «перерасчетом маршрута» и «разворотом, где только возможно», но в конце концов, успокаивалась и просто умолкала, засыпая на долгих прямых, как стрела, стокилометровых участках.
Милечке же приходилось выдерживать все: и ворон, которые не перелетают, а переходят хайвей, как пешеходы, переходят не спеша, как несбиваемые с жизненного пути пожилые американки, и терпеть исключительную предупредительность работников дорожно-ремонтных служб, раздражающих нашего туриста своей скрупулезностью, своей неспешностью. А наши визги при виде лосихи с лосенком, зайца, орла, или снеговой шапки! Или коряги, так похожей на гризли с непременным визгливым торможением в неположенном месте!.. Наша Милечка, разрываясь между вороньим клекотом «вы превысили разрешенную скорость» и молчаливой настойчивостью Лоры, жмущей на газ, наша Милюся все пыталась уладить: и не опоздать, и не загрузнуть в болоте, и при этом все время быть в напряжении, и мгновенно поднять стекла, если косолапый полезет косой лапой или мордой в окно за хозяйским бутербродом.
Наша команда
(продолжение)
«На зарядку по порядку, по порядку на зарядку становись!» Каждый вечер перед сном я напеваю им развеселый пионерский марш, я насвистываю им, натромбониваю и они бегут, бегут, толкаясь и доказывая свое первенство, свою важность и необходимость. Мы недолго спорим с женой, кто же все же прав, и в конце концов удовлетворяем всех - все наши гаджеты. «Гаджеты». Им не по душе, когда их так называют. «Пожалуйста, не тыкайте и не обобщайте! Мы все разные!» - просят они. Но именно это меня и раздражает. Я мечтаю о чем-то одном, универсальном, о «комбайне».
- Скоро для них понадобится отдельный рюкзак, - сетую, но больше для проформы, потому как без телефона, то есть двух айфонов, без планшета, который пыжился заменить комп, фото, видео и джипиэс, но мы взяли и комп, и фоторужье, и видеокамеру, и отдельный, удобно укрепляемый в авто навигатор. И правильно! Ведь все хочется увидеть поближе, и записать в хорошем разрешении, и смотреть перед сном не плюясь и чертыхаясь, почему так медленно грузит, тормозит, переполняется. Нет, друзья мои, все это надо, без этого уже никак, вот только кабеля и переходники достали: путаются, засовываются не туда, забываются в отелях... Особенно переходники, которых всегда почему-то меньше, чем гаджетов, и кабелей, и розеток, - это же кошмар, когда все нельзя одновременно подключить, начинается свара, галдеж, обиды:
- Почему ты считаешь, что твой фейсбук важнее? Почему?! Да, я взяла свой айпад, но фен же я не взяла, фен мы оставили дома, и кипятильник, который бы нам больше пригодился, чем твоя бритва!
Ну, что на это ответить? И надо ли? Побережем слова, помолчим в тишине и одиночестве, мы же сюда именно за этим и перлись, в такую-то даль… И гаджеты умолкают. Молчу и я. И замерев, не торопясь выдыхаю, словно аппарат для измерения давления, замечательный в настоящий момент тем, что подзарядки не требует.
Чистое небо
Есть такой анекдот. Аэропорт, зал ожидания. Люди ждут вылета. И тут приходит человек в чистом комбинезоне, присаживается, и окружающие начинают чувствовать неприятный запах, вонь. И кто-то говорит ему:
- Слушайте, товарищ, но так же нельзя, от вас воняет!
- Ах, извините, я здесь, понимаете ли, баки с дерьмом из самолетов выгружаю...
- Так мойтесь, гражданин! Есть же дезодоранты, спреи…
- Моюсь, и дезики, и одеколон - не помогает, что поделаешь. И жена тоже, и дети, всем моя вонь противна...
- Так смените работу, уйдите!
- Что?! Чтобы я ушел?! Из авиации?!
Да, что бы там не говорили, изо всех видов человеческих занятий именно авиация всегда обладала исключительной способностью к восторгу и очищению. И пусть говорят, что романтика ушла, что самолет превратился в общественный транспорт, и даже при посадке пассажиры перестали хлопать, и думают только о пасконтроле, багаже и позвонить водителю. Пусть. А извечное стремление к полету? Все эти «почему люди не летают, как птицы», все эти Ариэли, летуны-поэты, покорители космоса? А сакральная чистота неба и небес?! Да, конечно, есть и другая сторона: и ужасные чугунные стрелы, пробивающие черепа еще в Первую мировую, и напалм, и Хиросима... Сука-война добила и летчиков до повального пьянства, а как иначе забыть или хотя бы затолкать поглубже ту сметенную афганскую деревушку или караван, после оказавшийся санитарным. Да, авиация сама требует очищения. Но только не здесь.
Мы вышли к озеру с непоэтичным названием Саммит, присели на бережке. Горы отражались, утица с утенком почти не создавали ряби, но тут из-за гребня вынырнул желтый, повторяющий колер нью-йоркского такси, самолетик на поплавках и резко пошел на снижение. Оп-п! И он уже подруливает к нам, глушит мотор. Из двухместной кабины выскакивает белобрысый паренек и, наскоро натянув рыбацкий полукомбинезон, спрыгивает на поплавок. Это что же, на крыльях на рыбалку? Ну, вы можете себе такое представить?! А юноша между тем спрыгивает с поплавка в воду и тащит на берег пластиковые емкости. Три канистры в ряд. И даже не помахав нам, пацан забирается обратно, заводит, выруливает. Ап! И он уже за горой. Тишина будто бы возвращается, но следом из-за горы слетает еще один, на этот раз сине-серебристый, и тоже рулит сюда, к нашему берегу.
- Он сейчас заберет канистры. Это передача «груза», и место нешумное, уединенное. Что же это? Наркотики? Красная ртуть? Золотишко? В канистры что угодно можно засунуть...
В это время пилот «синего» тянет канистры до своего гидроплана, и – что бы вы подумали? - переливает содержимое бокалов в свою чашку.
- Все просто, - сказала мой водитель, - у «синего» кончился в полете бензин, и он вызвал такси, чтобы его дозаправили. Я слышала, что на Аляске почти 10 тысяч таких самолетиков.
- Больше, – поправил инет. - Одиннадцать. И еще 1000 желтых авиатакси. И это – на 700 тысяч населения!
Я представил, как все они кружат над Оболонью, где проживает примерно столько же, как на Аляске… Скучная штука это «будущее».
- Вот видишь, - сказала Лора. - Все дело в бензине.
- В керосине, - поправил я со знанием дела.
- В авиационном бензине, - поправил меня инет.
А «синий» тем временем завелся, вырулил и перемахнул горку. Рыба не ждет!
Небеса отражаются в озерах, а они – в небесах. А самолетик – наверное, и там, и там – в зеркалах, и в растянутой, как карточная колода, зеркальности, в бесконечной веренице размышлений, банальных и мелких, как неглубокие поначалу озера. Как хорошо, людей нет, Лора чего-то вяжет, гаджеты не в счет…
У озера
Был когда-то советский фильм под названием «У озера», где все герои заняты рассуждениями «убивать не убивать, загаживать его отходами картоннобумажного комбината или не загаживать», и проблема оказывается не простой. «А люди?» - веско спрашивает секретарь парткома, имея в виду рабочие места, на что нежная и прозрачная, как молоденькая смерть, журналисточка (ее играла Наталья Белохвостикова) почти не слышно: «А красота?» И все задумываются, глядя на нее... А в озере плывут дымящие трубы.
Тут, на Аляске, уже не задумываются. Было всякое, и экологические катастрофы (нефть, например, разливалась). Но, в конце концов, пришли к чистоте. Мы сидим у озера, никаких КБК нет и в помине. Только маленькие домики на берегу, типа эллингов, все похожие, все буквально на одного медведя, и рядом такие же пирсики, мостки в воду с табличкой «прайвит проперти», призванной отпугивать диких туристов. Но у пирсиков - не лодки, не моторки, не скутера. Я поначалу тоже не разглядел. Мы сидим на берегу в ресторанчике, и на закате местное солнце, собака, так слепит, что ни меню, ни счета не видать. Так вот, возле этих пирсиков на берегу все те же ресторанные столики, а в воде стоят и красуются, что бы вы думали? Неправильно! Не яхты, не каноэ и даже не водные велосипеды. Ладно, фербэнкс с вами, как говорят в Анкоридже, у приватных пирсов стоят аккуратненькие харлеи на водно-велосипедных поплавках с элегантными крылышками, пропеллером, хвостовым оперением и раскраской по моде. Впрочем, с харлеями аналогия разве что по экстерьеру. Эти легкие конструкции подчас даже не мопедные, а велосипедные с моторчиком. Небесно-водные велики!
Мы сидим за столиками, неспешно снуют официанты, июльское незаходящее солнце горит в бокалах, и то и дело на тихую водную гладь живописного озера Хууд бесшумно, словно театральная декорация, опускается желтая, серебристая, белая или иная птица. Посадка с включенными двигателями здесь запрещена, дабы не сдувать салфетки со столиков. И вот, слегка теребя поверхность, красиво они подруливают к своему эллингу, которые здесь, понятно, называют иначе. Вы будете удивлены, но и взлетают они так же бесшумно, и только некоторые, но это, понятно, приезжие с востока, из Фэрбенкса, газуют как рокеры. Такого фраера и видать издалека. И вся или почти вся местная публика снисходительно усмехается: о, Фэрбенкс, мол, снова со своими понтами. Но все это совершенно беззлобно и банально. Фэрбенкс так давно уже потерял интерес присоединяться к Канаде, а равно и к Соединенным Штатам, что голос его уже никого не волнует. Ну, прогудел свою лебединую песню над озером, ну, смахнул салфетки со столиков, ну, клаксонул-бибикнул на повороте истории…
«Фэрбенкс с ним», - как говорят и у нас, вернее, уже не говорят, а так, чтобы было о чем, когда не о чем.
Так они и стоят у озера по периметру: домик и самолетик у мостков, табличка «прайвит», полторы сотки. И рядом такой же. И снова. Хорошо...
Что еще немного раздражает, так это таблички с просьбой не кормить уток, которые, плодясь, препятствуют развитию небовелосипедного спорта. Но и эту проблему они почти решили, то есть или именно некормлением, или здесь уже и животный мир понимает слово «прайвит», не знаю...
«Птички» нешумно взлетают и, сделав несколько кругов, садятся; солнце тоже, почти не заходя, движется по кругу; и кажется, нет ни переворотов в Турции, ни взрывов в Ницце, ни РФ…
Какое счастье, что Аляска - наша, то есть американская. А иначе, вместо «птичек» стояли бы здесь «сатаны» или «цирконы», а за столиками сидели б журналюги, жрали бы водку и распинались об американской угрозе.
Ой, да что ж это я… Братцы! Не читайте советских газет. Не кормите их, щелкоперов. Фэрбэнкс с ними.
У озера. Дядя Сэм
Над дверью хибарки была надпись «Рыбацкие истории рассказывают здесь». Я постучал, подергал. Заперто, и кажется, никого на 100 миль вокруг. Но тут на другом конце озера что-то зажурчало, от дальнего берега отделилась моторка и двинула в нашу сторону.
- Так вы, значит, не рыбак...- разочарованно подытожил смотритель и, помолчав, добавил: - А и правда, какая здесь рыба?! Мелочь, фунтов пять не более, и что? Стыдно сказать: карась - кидай-вынимай, это же теперь пруд, зарыбили его карасем. И что? Если вы ловили щуку, вы знаете, это совсем другое, о! Хватала на лету, а силища какая, рвалась, брыкалась, как раненый лось... Так ее признали ядовитой?! Пойзен. Такое придумать! И зарыбили, сначала лососем и горбушей, идиоты, ей же необходимо движение, течение, а озеро ни втока, а ни вытока не имеет, значит и нереста не будет. И не было! Все Матанушка предвидела. Ну, впустили карася... он, конечно, неплохой, до 15 фунтов, и берет сразу, что бы ему не дали. Кидай-вынимай! А на мою наживку - так вообще обо всем забудешь, и лицензия у нас недорогая...
Я извинился:
- Надо ехать. А за историю спасибо.
- Э! - он заулыбался. - Какая же это история?! Вот дядюшка Сэм, он сюда наведается скоро. Вы бы его послушали. Что я?!. Озеро мелеет...
Он не успел договорить, как запертая дверь отворилась. И на свет явился, ну да, наверное, тот самый дядя Сэм – заспанный блондин медвежьего вида и, протянув лапу, спросил:
- Откуда будете? Из Украины? А у меня корни - и донские, и кубанские. – Он улыбался, широко, приветливо. И я был ошарашен сходством: на меня смотрел тот самый боевик, из «казачков», что прошел по всем российским телеканалам. «Покуражиться!» – так пояснял он, поигрывая «калашом», почему поперся в Украину…
И я рассказал об этом.
- Похож, значит… Все мы похожи. А вы не верьте, мало чего, одного показали… Нехай… Ему нас не подмять. На Дону что ни хутор – своя запевка. Свердлов и Троцкий не смогли. Сталин не смог, а этот – и подавно. – И он протянул руку: – Семен, ну или Сэм, если так больше нравится.
Я сказал, что «Семен» мне нравится больше.
А почему – не знаю.
Матанушка глетчер (ледник)
«Однажды Господь забыл выключить айс мэшин (фризер для производства льда), и появился первый глетчер. И он увидел, что это хорошо, и стал забывать и забывать.. Люди же сделали такие машины по образу и подобию Его и стали кидать лед куда только возможно».
Я проснулся рано и пошел по пустому дому. Би энд би – самое лучшее, что можно придумать. Где еще прочтешь такое, написанное детской рукой и прискотченное к холодильнику? Записки – кругом: в ванной и туалете, на кофеварке и вафельнице, возле компьютера и мусорных баков. Записок хватает, а в доме – большом, двухэтажном, с таким же подвалом, - в доме почему-то бардак, то есть в общем-то чисто, но разбросано, не на своих местах. Я добрел до хозяйской половины, на первый этаж.
Дверь была отворена, и я заглянул: в комнате спали вповалку: кто на лежанке, кто на большом кресле, а кто и на матраце, на полу. Не накрывшись, в одежде. Спали дети – пятеро пацанов и одна девочка, и один негритенок, я не понял, мальчик или девочка, голова его была замотана, а ножки торчали. Януш Корчак описывал спящих детей, и я тоже знаю: наблюдать за ними можно бесконечно. Кто бежит, едва касаясь поверхности, и на лице его, слава богу, чаще улыбчивом, в каждой черточке – жизнь и шевеление, немой разговор, а однажды – всхлипы, я видел слезу, но только раз… Здесь же спали мертво, глубоко; топай, хлопай, вздыхай, мол, пора в школу, подымайтесь – все без толку. Но я все равно пошел к выходу на цыпочках. И тут из внутренней двери явилась хозяйка, крепкая, дородная:
- Пусть поспят, – сказала она, наливая в стакан воды и бросая туда пару кубиков из фризера. – Вчера поздно привезли рыбу, грузили в ледник. Мы коптим и солим – вы видели нашу коптилку?
Да, все семеро – ее, родные. Родилась она здесь, это был родительский дом. А по молодости сбежала, уехала в Штаты, мужей не нажила – зато детки на выбор. Отец помер давно, а мамы два года, как нет. Вот и вернулись.
- Тут у нас огород – капуста. А коптилку еще отец строил. Хотите купить рыбки? У меня все забирают. Но немного еще есть.
Пахло вкусно, аппетитно.
- С радостью, - ответил я, - возьмем в дорогу.
- А вы на глетчере были? Матанушка глетчер. Туда все едут – красиво. Но опасно, - добавила она, посерьезнев. - В том году шестеро погибло, просто провалились. Вы осторожней, по нему лучше не ходить. Лучше – издали.
Национальный парк был устроен так, что ближе чем на 3 км к леднику, съезжавшему по Матанушке, подойти было нельзя, и мы, довольные обзором с популярных смотровых площадок, уже собрались обратно, как тут краем уха я услышал, что есть частный парк, выходящий прямо на глетчер. Отыскать его было нетрудно. И заплатив положенное, мы подписали бумаги о том, что на глетчер не полезем и за все отвечаем лично. Вскоре мы уже сидели напротив голубоватой громады, до которой было уже метров триста-четыреста, и по болотистой почве вела дорожка, кое-где уложенная продольными досками. Гать шла по подтаявшей мерзлоте, а затем и по льду, под которым что-то журчало, шевелилось, билось, ляпало.
- Там кто – река? – спросила Лора, понизив голос.
- Ну, да… Матанушка.
Звуки доносились из трещин, подчас глубоких, 3-4-5 метров, мы почти добрались до самого ледника, и в этот момент что-то двинулось, громада заскрипела. Такой скрип и скрежет я слышал лишь однажды, когда в нашем номере треснула бетонная стена - на Родосе случилось землетрясение, - стена треснула поперек, мы на мгновение застыли, и тут же в чем были рванули прочь из отеля.
Вот и сейчас мы, и не только мы, инстинктивно присели, но бежать было некуда. Кругом все смолкло, замерло на миг, насторожилось. И снова зажурчали подледные воды, народ повеселел, принялся за фото и селфи.
- Ну как, - спросила хозяйка, когда мы вернулись, – слышали?
- Что?
- Рев… голос глетчера. Правда, жутко?
- Природа…
- Какая природа?! Говорят, глетчерный лед особый, способен накапливать такие звуки. А в нужный момент – хр-р-р! - и человека нет, как будто и не было – в трещину, под лед, в омут.
- Так никого же не затянуло!
- Значит, скажите спасибо, кто-то за вас попросил.
- Спасибо! – сказал я.- А кому?
- И жена пусть скажет.
- Хорошо, передам. А все-таки кого же нам благодарить?
На что хозяйка хмыкнула и ушла, так ничего и не ответив.
Утром мы уезжали. Я занес ключи, оставив их на столе. Все было как вчера, народ спал вповалку. А негритенок (я уже знал, это мальчик) скрючился в кресле, снова замотав голову платком.
«Как бы не задохнулся», - подумал я и, не рассчитывая ни на кого, отвернул платок.
У озера «Малютка»
- Сколько? Плюс 20? Не может быть!
Оказалось – может. Вода в озере, куда мы заехали к обеду, оказалась горячей. Или солнце светило вовсю? Или так нагрели его девчонки в военной форме – учащиеся какого-то училища с армейским уклоном? Класс был большой, а озеро маленькое, с нашей стороны мелкое, а ближе к утесу на горном обрыве, наверное, поглубже. Но туда никто не плавал, девахи резвились здесь: кто разбивал палатки, кто куховарил, кто спал, кто полез купаться. Две спортивного вида воспитательницы, казалось, были заняты чем-то своим. И мы, расположившись в сторонке, им не мешали. Я окунулся, чуток проплыл и лег на воду, засмотрелся в небеса. Интересно, как же я выгляжу – маленький, голый, в середине голубого глаза? Я потихоньку греб и уже повернул обратно, как вдруг из-за утеса вылетел он – желтопузый самолетик на водомерных ногах. Нырнул ко мне, но тут же, видимо, углядев меня, взмыл, помахав крыльями. И пошел на разворот. С берега мне замахали. И я поплыл быстрее, недоумевая и совершенно не представляя, как сюда, на нашу малютку, можно приводниться.
Если вы хотя бы что-то понимаете в авиации или видели какие-то фильмы, или читали… короче сесть сюда невозможно, меня зря выгнали из воды, он совсем не это имел в виду, помахивая крыльями.
Между тем девчонки, бросив все, сгрудились на берегу. А баш-пайлот – я впервые услышал, как их называют, - завершив разворот, рухнул, слетел, точно лыжник, с утеса, и пробежав метров, ну, пусть тридцать, лихо уткнулся поплавками в бережок. Из кабины выскочил пацан в тельняшке и голубом комбинезоне, нет, все же не подросток, а юноша: белобрысый, курносый, улыбчивый. Помахал всему цветнику и в ответ получил такое ликование и восторг, что и мы с Лорой захлопали и заулыбались.
- Ну, циркач! Босяк!
- Орел!
- Как они сказали – баш-пайлот? Безбашенный, что ли?
Оказалось – баш или буш – означает глухомань, чащоба, куда ни дорог, ничего. Зимой-то еще можно, на собаках и вездеходах, а летом только вертолеты или вот такие, как он, – красавчики.
Но сюда-то зачем? Что он привез? Спички для костра, которые впопыхах забыли? Или пакет с приказом о наступлении? Не знаю. Мы не заметили. И как взлетел, я не помню.
- Гагарин! – вспоминала потом Лора.
- Казак! – добавляя патриотизма, усмехался и я…
Я всегда разрывался между небом и морем, крыльями и парусом, воздухо- и плавателями по морям и океанам. И те и другие не только казались - были покорителями и героями, и этим и тем хотелось подражать. А тут и асс, и почти что моряк, и небесно-надгорный и озерно-озорной!
Надо ли так рисковать?
В Талкитну мы ехали в дождь. Но по дороге нам на минутку повезло: небеса вдруг очистились, и горы ненадолго открылись, причем именно так, дабы массив Денали (Мак-Кинли) – черные, точно душа дьявола, зубцы и небесной чистоты ледники - предстал в далекой и недоступной белизне.
- О, Боже! О, my God!– восхитился я почему-то по-английски.
- А вы уверены, что она божественная? А ю шуа?
Я оглянулся. Надо мной навис двухметровый старик, крепкий, орлоносый, с обветренным лицом, трещиной-прорезью сжатого рта и седыми, точно ледники, длинными кудрями, которые спускались на плечи из-под синей джинсовой бейсболки. Старик приник к окулярам бинокля, глаз его не было видно, но он их щурил, всматривался, и морщины вокруг становились глубже, обрывистей.
- А ю шуа? - повторил он сквозь зубы и опустил бинокль. В глазах его мелькнул Денали, сверкнул осколком-огоньком. И старик, развернувшись, пошел к машине.
Я увидел его еще раз, в городском музее, в зале, посвященном альпинистам. В центре - большой макет Денали, с обозначенными на нем маршрутами, лагерями. На стенах - фото, истории и судьбы, счастливые концы и трагедии. Мне объясняли, что есть несколько типов восходителей. Первый - покорители вершин, для которых категория маршрута, его сложность и невозможность, риск, подчас запредельный – и есть смысл жизни, мечта и слава, кому гора, как орден, звание - цель, и он идет от значкиста и разрядника все выше и выше. «Есть наслаждение в бою, И бездны мрачной на краю…» Горы, как наркотик, сулят «неизъяснимы наслаждения» - вот второй тип. Третий - те, кто преодолевает себя, свой страх, слабость, лень, иные, не связанные с горами страсти и пороки. Понятно, что в чистом виде нет ни тех, ни других, все намешано и закручено у каждого в свой узел, да, именно узел, без узла в характере с горами долго не живут: либо уходят, либо гибнут. Оказалось, есть и четвертый тип...
Так вот, снова мы пересеклись в музее восходителей, клаймберов, как называют их тут, в Талкитне. Он стоял у стенда, посвященного Наоми У - великому альпинисту-одиночке, вчитываясь в его судьбу, в откровенные слова о том, что он не знает, почему так тянет в горы.
В этой тяге, как многие считают, есть нечто нехорошее, греховное, дьявольское. Вот и горы изобилуют лихими названиями: Чертов палец, Стена дьявола, Сатанинский гребень, Тропа смерти. Не на это ли намекал орлоносый, ставя под сомнение божественное происхождение Денали?
Мне показалось, что и ему сравнение восходителя с олимпийцем, стремящимся превысить рекорд на стометровке, мало что прояснило. Его не интересовало, кто таков Наоми - покоритель гор или покоритель себя. Цитата не дала ответа на самый трудный вопрос: нравственно, достойно ли так рисковать? Причем, как чужими жизнями, так и своей?
С одиночками - а Наоми один из них, - казалось бы, все понятно, идут сами, на свой страх и риск, при чем же здесь нравственность? А выходит, очень даже причем. Однажды у нас в зоопарке религиозный фанатик влез в клетку с тигром. Он возглашал: «Господи, я знаю, ты есть, и ты меня спасешь, если же тебя нет - зачем жить?» Тигр его убил одним ленивым ударом. Потому что с Ним играть нельзя, запрещено. Такая провокация сродни самоубийству, а самоубийцы подлежат осуждению всеми религиями: человек не вправе распоряжаться своей жизнью, не он дал ее, не ему нарушать Великий План о нем. Намеренно рискуя, выбирая все более сложные маршруты, восходитель каждый раз бросает вызов Создателю. Потому и погибает...
Но есть и прямо противоположный взгляд: они – безумные храбрецы – нужны, необходимы Ему, причем по многим причинам. Не только для демонстрации наказания богоборцев, но и для размышлений об этом. Мне кажется, Он приглашает к диалогу. Это почувствовал Пушкин - потому он не утверждает, а сомневается: «Все, все что гибелью грозит, Для сердца смертного таит Неизъяснимы наслажденья – Бессмертья, может быть, залог…» Это сомнение, этот вопрос - и есть ответ на Приглашение к диалогу. Вопрос Пушкина о залоге – о Завете, который, может быть, и возникает на Грани; например, на пороге смерти, - этот вопрос не остается без Ответа. Неизъяснимы наслажденья, как путь к бессмертию, - вожделенный для многих (и может быть, для автора «Пира во время чумы») путь в отличие от смирения, ограничений, нищеты не только тела, но и духа, - этот путь осужден: люди наказаны СПИДом, инфарктами и инсультами, народы – тоталитарными режимами и мировыми войнами.
Не эксперименты дозволены, а трепетное прикосновение к Божественному, когда величайшее наслаждение от Неявного Присутствия сочетается с выяснением границ, за которыми Господь опасен – смертельно опасен. Вот о чем следует помнить. Ядерно-космический век вплотную подвел человечество к Границам – и альпинизм родился в прошлом веке. Не пришло ли время остановиться и в космических исследованиях, осознать волю Создателя и прочнее привязать людей к Земле: другие планеты созданы для других, общение может быть смертельным!
Впрочем, есть и такой взгляд: в эволюционном смысле презирающие смерть подобны мутантам, то есть необходимы для разнообразия; а чем разнообразнее род человеческий – тем больше шансов для выживания. Поди, разберись…
Но вот что меня тревожит: поведение ведущего, наставника, мастера. Даже наиболее ответственные и опытные из них не могут знать, где у снежного карниза точка обрушения и когда это может случиться. И тогда вероятность выжить – ничтожна, а идти по таким зонам приходится. Был такой случай: привел мастер новичков к снежному карнизу и остановился. Десять минут стоит, молчит, не двигается, двадцать. Народ начал роптать: мол, чего ждем, кто нас ведет? А тот ждет. Ждет, не реагируя ни на шуточки, ни на упреки… И вот на тридцатой минуте - а-а-а! - сошел карниз, обрушился.
- Ну, ты и чудотворец, прямо провидец! - заговорили в группе.
А мастер тот после похода завязал с альпинизмом, понял, что не имеет права рисковать жизнью других, да еще и в таком бессмысленном, амбициозном деле.
У Владимира Высоцкого есть свое оправдание смерти под горным обвалом - такая смерть лучше, чем от водки и от простуд, тем более, что горы проверяют человека, отбраковывают настоящего друга от случайного попутчика. Такой друг становится братом. Что может быть привлекательнее для пацана, подростка? А вот о трагедии близких в песне великого барда нет ни слова. И ничего о том, что надежда «только на руки друга и вбитый крюк» исключает Бога. Не говоря уже о том, что от такого братства недалеко и до братвы...
Третий раз я встретил орлоносого вечером, за большим столом в Роад Хаусе, месте, где многие годы собираются восходители. Сдержанная, немногословная, немолодая компания. Мастера, повидавшие и победы и потери друзей, последователей. Мы кивнули друг другу.
О чем они молчат? Может быть, совсем об иной ответственности, глобальной, общечеловеческой. Мне на память пришел фирменный американский лозунг: кип клайминг - держи подъем, стремись быть он зэ топ – наверху, бери на себя обязанность блюсти весь мир... Так шли по планете миссионеры и пионеры-завоеватели, а не было бы их, не родилась бы современная Америка - и в самом деле пример для подражания. Но где-то на этом подъеме должен быть опасный карниз, смертельно опасный для всех ведомых и ведущих. Как бы его не пропустить…
А насчет Денали и сомнений орлоносого… Нет, здесь все просто. Конечно, божественная красота. И любоваться ею не только можно, но и нужно – только на расстоянии, безопасном расстоянии, введенном и оберегаемом Творцом.
- Риск? – услышал я обрывки разговора за столом мастеров. – А ты к Матанушке сходи, она всю правду скажет, она не ошибается.
Встречи на кладбищах
А ведь кладбища говорят о жизни не меньше, чем жилища. В Нинильчике, вокруг храма - деревянной беленькой с голубым куполом церковки - русское кладбище, на могилах беленые кресты и такие же оградки, и фамилии почивших: сплошь Квасниковы да Осколковы. Заброшенных могил нет. Кое-где немного заросло, однако видно, что прибирают.
Вот и хозяйка-смотрительница. Женщина пожилая, алеутской наружности, улыбчивая.
- Батюшки у нас нет, - говорит она по-английски. - Два раза в год, на Rojdestvo и на Paskhu, - оба слова она произносит почти без акцента, - к нам приезжает священник. И все. Нас совсем мало осталось - пятеро... Было больше, да вот Katka сманила, увела, гадюка! – сетует алеутка.
Какая Катька?
И все же осколки иной культуры живы, и добавляют разнообразия, а значит и белизны и голубизны, и все дурное остается в прошлом, все убиенные той еще российской интервенцией, ермаками, которые были ничем не лучше американских «пионеров».
До Николаевки - поселения русских староверов - мы не доехали, повернули посередине дороги: а зачем, спрашивается, беспокоить? Оценивать, как уходит язык? Расспрашивать, почему все больше смешанных браков с американцами? Вот уже многие десятилетия бегут они от мира - по пути была и Маньчжурия, и Бразилия, и штат Орегон... Теперь здесь. Слишком их мало, чтобы не выродились от внутрипоселковых браков. Осколки...
Люди живут: строят и продают лодки из стекловолокна, рыбачат, растят детей, смотрят за могилами. Да, понемногу ассимилируют. И верят: Господь не оставит, а государство, американское естественно, поможет, если что. Американцы имеют теперь такую традицию - помогать. И индейцы-атабаски, и алеуты защищены законом, у них немало льгот и преимуществ, обычаи и культура всячески восстанавливаются, и если бы не пьянство да наркотики... В Николаевке, говорят, пьянства и не было никогда.
Кладбище в Талкитне, кроме обычных для них миниатюрных надгробий - плитка 20 на 30 см или такого же размера лежащий на земле камень, - особо хранит память о летчиках и восходителях. У первых вертикально установлены пропеллеры, причем есть и с погнутыми лопастями, а информация о вторых дана на стенде: имя, страна, год гибели. В иные годы - больше десятка или бывает меньше, но погибшие или пропавшие есть всегда.
Там же, у стенда, я увидел, что на бейсболке у одного из посетителей - красная звездочка, октябрятский значок, наш советский, с до боли знакомым кудрявым пузантиком в центре.
- Простите, - не удержался я, - а вам известно, чей образ у вас на челе?
- Конечно. Это Ленин в юном возрасте. Ленин – создатель одной из самых бесчеловечных социальных систем, тиран типа Сталина.
- И вас не беспокоит, что вы носите изображение мерзавца?
- Напротив, это ведь повод обратить на него внимание, а значит, и рассказать о нем подробнее. У нас в Техасе немногим известны его злодеяния, немногие понимают, что есть коммунизм.
- Отличная идея, спасибо вам. У нас, увы, памятники ему сносят, а ведь можно было бы поставить рядом стенд с информацией.
- Почему же вы этого не делаете?
И я не нашелся, что ответить. Хотим побыстрее забыть? Или следуем за маятником, что качнулся в другую сторону? Хотелось бы не менять одних мерзавцев на других… Я замялся. А он продолжал:
- А ведь можно было бы поразмышлять о самоуверенности, с которой восходители и тираны ведут за собой обреченных.
Нинильчик, Солдотна, Небесна роад, дедушка-комар...
Когда на ярмарке в Анкоридже меня принялись зазывать в тент с матрешками, я замахал руками:
- Нет-нет! Боже упаси!
- Но почему?! - удивилась продавщица.
И верно, почему? Дома, в Киеве, на Андреевском спуске, я тоже обхожу эти палатки стороной, то есть всегда обходил, и еще до войны с РФ, – терпеть не могу этот ширпотреб. А сейчас - тем более. И вот это «более» заболело пуще всего. Нет, не стал я объяснять, почему шарахаюсь от русского, поспешил, ушел.
Что же это происходит?! Сам при каждой оказии стараюсь внушить, показать, в чем разница между русским и имперско-российским, а тут побежал, как заяц. Убоялся разговора? Вопросов? Иной, твердокаменной позиции, оболваненной соловьево-киселевской демагогией? Все, наверное, так, однако и не так. К ужасу своему я стал замечать, что и акцент (более всего московский), и внешность, и то, как себя подают: уверенно, активно... да, раздражают, вызывают неприязнь. Значит, что же – снова приходит время стоять за простые истины, объяснять уже выстраданное, казалось бы, впитанное с материнским молоком?
Интернационализм, с добавлением «советский», согласно которому все равны, но угнетенные ровнее, ближе, а рвачи, барыги, мироеды, лихоимцы, мздоимцы, хапуги, буржуазия (до чего же неприятное змеиное словцо!), а проклятые капиталисты (а какие же еще?), - советский интернационализм всегда был социально ущербен; нации обретали классовую окраску, и евреи с американцами прекрасно подошли на роли внутреннего и внешнего врагов. Белый американец в сознании «совка» породнился с «ку-клус-кланом», а евреи всего мира возглавили всеобщий заговор империалистов против СССР, а теперь – и против РФ. Немцы, татары, чеченцы и «кавказцы», поляки и прибалты… Теперь – укропы, жидобендеровцы. В нынешней РФ культивируется Хомо Империкус: овраженный, подозрительный, хамский, агрессивный.
С русскими на Аляске произошло обратное. Потомки тех, кто прокладывал дороги, создавал поселения, торговал пушниной, добывал золотишко… то есть вкалывал, обустраивал и обживался, не несут на себе имперских печатей. Да, среди них немало молокан, изначально очищенных верой; сюда прибыли эмигранты, бежавшие от ужасов большевистского террора, в том числе – интеллигенция, и вообще люди культурные и образованные; и все же, на мой взгляд, их очистило не только личное стремление уйти от грязи, зла, насилия и т. п., но и первозданность этих мест, соединенная с протестантской простотой, трудом, как молитвой, и рациональностью рыночного хозяйства.
Конечно, путь этот был непрост. Здесь нашли золото. И закрутилось, завертелось. Опять потащило вниз, обратно, из демократии и свободы в царство Кощеево, с небес на землю и даже - под, в такие омуты пещерного бизнеса, в такое болото бутлегерства, проституции, казино и разбоя, откуда не то что взлететь, ручонки вытянуть не удается, тако засасуват, ядрена вошь, ого! Ого-го...
И все же они справились. В проамериканенную Аляску отправляются за чистотой. Вот и у меня есть надежда, что и бизнес прежде всего, малый и средний, и освобожденная от гундяевщины вера, и великие просторы Севера, Сибири, Дальнего Востока очистят русскую душу. Услышал как-то: Запад снова и снова старается поставить Россию на колени, а она все лежит и лежит. Украина решилась встать, восстать. Україна воліє постати. И хочется сказать: соседка, не мешай, оглянись вокруг и - айда с нами! Убежден, там, в России, нас слышат, слышат многие. Ради них нельзя допустить русофобии. И ради тех, кто колеблется. И ради тех, кто сейчас ошибается.
А что если привезти с Аляски матрешку?
«Велкам ту Киллхани!»
Нас остановил красочный монумент с орлом на вершине, разноцветными рыбками и непременным топтыгой в центре. Такого зазывного плаката мы еще не встречали, но как только свернули, тут же наткнулись на другой, черно-белый и не такой лаконичный. «Ввоз в поселение алкоголя есть уголовное преступление». И ссылка на закон штата.
-Ты уверен, что нам сюда? - спросила жена, но я увидел церквушку со шпилем - мормоны! - и уверенно подтвердил: мол, почему нет?
Мы вышли из машины, осмотрелись и двинулись по пустынной улице, прислушиваясь к неожиданной тишине и оглядываясь. Домики в один-два этажа, дворики без оград. И в каждом два-три-четыре авто, причем разного возраста: от древних до современных. И - ни души. Где люди?
- Смотри, какой симпатичный домик! Как игрушечный! Становись, я сниму, вот здесь у машины. Да это же середина пятидесятых! Раритет! С такой как раз слизали «Чайку».
Домик и впрямь был крошечным, холодильник внутри не помещался, стоял снаружи, слева от двери.
Мы подошли ближе. К холодильникуу был прислонен белый кладбищенский крест с венком ярких бумажных, еще невыгоревших цветов. А сверху - чашечка, кофейная… Я почему-то был уверен: поставили немного остыть – и забыли.
- Наверное, здесь жил индеец, атабаск, они все очень маленькие. Алкогольное вырождение.
- Смотри, у всех авто разбиты лобовые стекла, вот, как раз на месте, что рядом с водителем. Лихач...
- Ну, хорошо, а остальные? Куда подевались?
И мы пошли по селу. Были дома и получше - двухэтажные с аккуратными дворами и новыми авто, но больше - бедные, с разбросанными по лужайке великами и всякой всячиной, цыганистые... Но и те и другие - без людей, без какого-либо шума и шевеления внутри.
И все же кто-то здесь был.
- Смотри, дверь.
- А вон окно на втором этаже…
Темное, скрывающее кого-то в неосвещенной комнате. Кто же там, в сумраке? В тени за занавеской? Висит, не колышется…
- Как тихо, даже мух нет…
- Может, лучше машиной?
И мы поспешили назад, добежали, вскочили, подняли стекла и тронулись по селу в надежде хоть кого-то увидеть.
- А помнишь, в Голландии, все село уехало на свадьбу?
- Нейтронная бомба замедленного действия…
- А в Германии, помнишь, такой же безлюдный Гаммельн, словно всех увел Крысолов? А это был пасхальный уикенд.
- Нет, что-то не так… Записка-объявление в мормонском храме? Выгоревшая, промытая дождями. А пыль на окнах? Ты видела?.. Долгий что-то у них уикенд.
- Значит, забрали пришельцы. Прилетели и увезли на экскурсию. Вернут лет через триста.
- Смотри: собака!
Она мелькнула на дальнем конце улицы и, поджав хвост, пошла прочь.
Миля клацнула, закрыв двери на центральный замок.
«Потерян сигнал джипиэс», - пискнула Оксана.
Докатили до кладбища с белеными крестами и оградками.
- А это, случаем, не русское?
Я сделал попытку выйти, но Лора круто развернулась и под звуки зловещей тишины мы выехали из Киллхани.
- Невеселое местечко.
- Жуткое.
- Сниму-ка я их на память, а?
- Только недолго!
И я быстренько - сначала уголовный плакат, а когда снимал придорожный, наткнулся (слава богу, только взглядом) на кол, причем хорошо заостренный. Осиновый?! Я поспешил к машине, но тут же в траве раскрытая книга с двумя столбцами на каждой странице. Листы выгорели и скукожились, поливаемые дождями.
– Сколько же она здесь? – я протянул руку. – New Тestament? Священное писание…
Они обычно лежат в тумбочках, в мотелях… Я тронул страницы, желтые, рыхлые, покрытые местами какой-то слабо пахнущей слизью.
- Не трогай! Не трожь! Поехали!
И мы покатили. Кол я тоже бросил.
Киллхани. Версии
- Ну да, напиваются и вылетают через лобовое. Водитель – об руль. А этот - конечно, какой там «пристегните ремень»: «мы на медведя ходим!» Они считают себя великим народом, потому и кары у них громадные, а нажрутся, как свиньи, и летают без ремней.
- И что? Вот так все и вылетели?
- Почему! Постепенно. Дикий народ.
- Ну, не знаю… Ты хоть с одним атабаском беседовала?
- Я читала!
- Слушай, я понял, что это было!
- И я! Помнишь рисунок в беа-шопе? Ну, шуточный. Жена зовет мужа: «Хани! Хани!» – А медведь заглядывает в окно: - «Хани?!» – Ну, мол, «Мед? Где тут мед?»
- И что?
- Как что? Поселок называется Киллхани. В переводе с английского: «Убеймужа». Или «Упеймужа». Споили! Бабы наливали, мужики пили. Кто не разбился, тот помер или сбежал. А баб доели медведи. Они же есть?
- Есть, конечно. Но ты не уловила главное. Это – скансен. Музей архитектуры и быта. Только не старой, индейской или пионерской, а современной. И отсутствие людей здесь – фишка! Главная мысль! Сколько таких, заброшенных сел, по всему миру. Жили себе эскимосы, жили своей жизнью. Пусть трудно, но привычно. И не пили, между прочим. А взять Африку, Азию. Открыла Европа границы – и поперло оттуда на льготы для многодетных... Я читал, каждый индеец получает на Аляске пожизненное пособие и еще какие-то «нефтяные», и туши убитых оленей - вполне можно не работать. Пей-гуляй, вылетай через лобовое!
- Ну, да! И я о том же. Теперь понятен и плакат, и евангелие, и храм – ничего от «шаровых денег» не помогает, не спасает. Ни закон уголовный, ни божий. А Киллхани, стало быть, переводится, как «убиенные медом». Летят мухи на медок цивилизации… А это – лента, покрытая варом. От мух.
Над глобусом, над Аляской
12 тысяч! Хорошо хоть они не все одновременно в воздухе. И хорошо, что Аляска по площади больше Оболони. А то бы и покой, и тишина, и чистота – фи-у-у…
Если спуститься пониже, так с высоты примерно… ну не знаю, короче, чтобы увидеть ее всю - Аляску, не Оболонь, - с такой высоты еще ничего не увидишь. Надо еще ниже, туда, где гасают баш-пайлоты, курсируют по своим делам. Ой, красавчики, казаки!
Не знаю, возможно, они принимают нас за тучки.
А возможно, и мы, спасибо писателям, имеем о них совсем не то представление.
Поверьте, о тех, кто живет в небе, никто толком не знает. Романтика и религия не случайно начинаются на одну и ту же букву. Точно так же «любовь» и «вера» - слова однокорневые, с одной, как говорится, звезды. Но пока вы этого не поймете – о чем с вами говорить, люди?!
(О ком это я написал? О летунах? Или бери выше?)
У озера. Сияние
Хибарка называлась «У Хоббита» и была недалеко от дороги, что имело свои плюсы и минусы.
Впрочем, минусов почти не осталось, когда за сутки проехала всего одна машина и прилетала-улетала парочка желтокрылых.
Озеро, скалистое, поросшее высокими стройными елями, отливало золотом на бесконечном закате.
Домик, покрытый мхом, почти врос в землю, ключи оказались в положенном месте.
- Есть теплая вода!
- И инет… Нам повезло.
- Слушай, как тихо…
- Да… Севернее мы уже не заберемся. Крайняя точка. Есть надежда увидеть сияние.
- Когда?
- Ночью, понятно.
- А ночь будет?
- Белая. Только закатится, как тут же и обратно. «Ночь ко-о-ротка…»
- А в рекламке написано: идеально для молодоженов.
- Ну, они найдут время. Давай поставим будильник.
В комнате было темно. Будильник не сработал. И я встал с кровати, оделся, стараясь не шуметь, и тихонько притворил дверь. Снаружи было светлее, но лес вокруг потемнел, деревья слились в один сплошной частокол, и на небе осветилось тончайшее облако. Было ясно, но сумрачно. Облачные перья отливали зеленовато, и я не мог понять, что это – северное сияние или отражение озера в небесах.
И тут запела труба. Над озером пронесся звук. И затих, и первая мысль была о гудке паровоза. Какого паровоза? Железных дорого здесь нет… А звук повторился: да, именно, паровозный гудок, а не пароходный. Кто знает, а вдруг у них на озера уже садятся летающие паровозы… Но звук пошел снова, однако, теперь уже чуток иначе, то есть слышалось уже почти незаметное отличие звука живого от машинного. Кто же это? Лось еще не ревел, еще не время. Медведь? Ни филин, ни чайка так не кричат, я знаю. Попугай, пересмешник? Однажды я услышал, как ворона, мяукая, дразнила пса... А голос вострубил вновь, и вместе с ним из-за елей вылетела пара больших белых птиц.
- Гуси!
- Лебеди! - поправил меня инет. - Полярные лебеди-трубачи. Редкая птица!
- Ладно, ладно! Хорошо! Пусть будут гуси-лебеди. Эй, куда! Куда же вы?! Нильса забыли! Вам же без Нильса никак!
Но они или не услышали, или сделали вид. Запели снова и пошли над темной нетронутой гладью, поглядывая на отражение, на самих себя, любуясь своей красотой на фоне сияния, как бывало, наверное, и с вами, когда торопясь на свидание, искоса поглядывали на себя молодую, и витрины гастронома отражали паву, только что расколдованную Гвидоном-царевичем.
Почему?
Почему я плакал в еврейском центре? Леви, молодой равви, надел на меня тфилин и показал в книге перевод на русский молитвы «Шма, Исроэль...» Я начал читать, и вдруг меня перехватило, и слезы полились, словно сами собой, и рыдания сотрясали меня, не давая успокоиться... Почему?!
Что было такого, чтобы вот так, вдруг, ни с того ни с сего... Неделю назад, прилетев в Анкоридж, я собрался было в музей еврейской культуры, мне хотелось узнать, что забыли евреи здесь, на Аляске, но оказалась суббота, шабат. Закрыто. Назавтра мы уезжали на юг по выстроенному еще в Киеве маршруту, и мысль его менять ради посещения музея не возникала, но сейчас, возвращаясь с южного кольца и переезжая на северное, мы снова оказались в Анкоридже, и музей был по пути.
Я еще не разобрал, что написано на вывеске, но вторая надпись, на иврите, подсказала – сюда! И тут же из стеклянной двери вышел молодой человек в белой рубашке, черных брюках со штрипками и черной кипе, направился было к своей машине, но увидев нас, улыбнулся, подошел.
Надо сказать, что в среде религиозной присутствуют категории, вызывающие у меня неприятие или, скажем помягче, настороженность. Я не люблю излишне полных служителей любой конфессии («И я не люблю жирных», - вставила жена), меня раздражают хитрые, искушенные в межконфессионных спорах, политики от церкви, искренне верящие, что способны скрыть свою корысть. Наконец, я немного побаиваюсь старых и очень старых иудейских рабби, которым, как мне кажется, я совсем неинтересен.
- Леви, - так представился молодой человек.
Он был худощав, тонкое лицо с удлиняющей его бородкой приближало его к святым с полотен Гойи, а улыбка располагала. Он спросил, я ответил, и не дойдя до машины, он позвал нас в Центр, расспрашивая, кто мы и откуда.
Выяснилось, что сегодня его сыну исполняется три года, и они готовят праздник первого подстригания, а до трех ребенка стричь нельзя. Пока поднимались, он, хабадник, поведал историю первых последователей Любавичского ребе в США:
- Да, да! Это была совсем небольшая группа студентов в Бруклине, и они решили: кто, как не мы, призваны искать чистоту и нести «идеи в массы»? И мы этого добились! Куда бы вы ни приехали, вы встретите две вещи: кока-колу и Хабад. И даже там, где нет кока-колы, есть Хабад!
Кто бы мог подумать?!
Мы поднялись на второй этаж, в зал, где уже расставили столики, украшенные разноцветными шарами. Нарядные гости улыбались мне, приветствовали равви. И Леви, отведя меня в сторону, предложил повязать тфилин:
- Вам когда-либо надевали?
И я вспомнил, да, в 1992-м, в Израиле, у Стены плача, ко мне подошел старик и спросил о том, кто моя мать.
- А, джуиш? Значит, и ты джуиш.
И стал навязывать, заставляя повторять молитву.
- Шма Исроэл, - повторял я за ним, и незнакомые слова напоминали о бабушке, провожающей меня и бормочущей мне в спину непонятное, когда предстояло что-то важное: экзамен, устройство на работу, командировка или женитьба.
Я пересказал это Леви.
- А вы знаете, что такое тфилин, зачем коробочки и в чем суть ремешка? Не знаете? Так вот, я один привяжу на голову, а второй на руку и десять раз оплету ее ремешком, десять - потому что это как заповеди, законы, данные Моисею. Тфилин впервые надевают юноше в 13 лет, когда разум уже созрел, а эмоции, сердце начинают владеть человеком и нужно привести их в гармонию, чтобы, вы поняли, не только умом, но и сердцем, не только сердцем, но и умом. В 13 лет это особенно важно.
- И не только в 13, - вставил я.
- Конечно, конечно, - закивал Леви. - Я сейчас принесу книгу на русском, чтобы вы читали молитву...
Первую строку он произнес на древнееврейском, и я повторил за ним, а когда он предложил мне читать русский перевод, я прочел две строки, задохнулся и заплакал. И не мог читать дальше. Леви коснулся моего плеча, тихонько сказал что-то и отошел, оставив меня с Книгой. И я постепенно успокоился, дочитал молитву про себя.
Почему я не мог сдержать слез? Вы не знаете? Ведь ничего сентиментального в наших разговорах не было. Вспомнил маму?..
«Опасайся медведей!»
Знаете, какой рекламный ролик здесь самый популярный? Спрей от медведей: огромный флакон «Беа спрея» – гонит прочь назойливых медведей, скунсов, мерзких белок, москитов. Фотомодель в восторге!
«Беа… Беа… Бивэа оф беаз!» – предупреждают таблички на трейлах. Выходит, что медведи здесь есть. Мы говорим – Беа, подразумеваем – Аляска. Мы говорим – Аляска, и косолапый – с каждого плаката, значка, обертки, этикетки. С каждым днем, с каждою милей уверенность встретить их - крепнет, обретает форму, запах, рев, страх и прочие ощущения. Надежда ни на минуту не покидает. И вот, пожалуйста, специально закрывающиеся баки для мусора, чтобы он не мог добраться до объедков и не отравиться гамбургером или пиццей. Значит?.. И доносится аромат спрея, отгоняющего назойливых мишек, и наши колеса бегут, тропы торопят, колокольцы звенят, а их нет. Все нет и нет.
Нет, утверждать, что их никто не видел, было бы опрометчиво. Писатели, понятно, врут. Но есть же живые свидетели, есть коллективные письма, даже фотографии и фильмы. И хотя по поводу последних у экспертов имеются сомнения в достоверности (кое-кто усматривает использование фотошопа, или цыган и студентов, переодетых в медвежьи шкуры), но ведь все остальное говорит «за»: в любом гифтшопе разбросаны когти в виде брелоков, чеканка, живопись, наконец, шкуры, чучела.
- Это настоящее чучело? – спросил я у продавщицы. - Реального чудовища? – намекая на трехметровый размер и пластмассовые когти.
- Вы имеете в виду «смешную» цену? Да, наша цена любого устроит! Завернуть?
Но мне хотелось живого. Увидеть, подсмотреть. Куда там. Колокольчики, предупреждающие гризли о появлении туристов, звенят слишком весело, слишком заливисто. Всей тропой, всем автобусом барабанят по его ушкам. А ведь слух у него тонкий, музыкальный. А тут – трах-бах, точно мусорные контейнеры в пять утра под моими окнами… Представляю, как они мучаются, как начинает дрожать их лапка в кусте ежевики, а тут еще и песни, и слоганы, и анекдоты. А реклама туров? Количество турфирм, гарантирующих беавочинг, уже превышает число беатуристов, не говоря уже о самих беаобъектах.
«Заговоры от нападения и укусов гризли. По телефону, по фото, скайпу, а также эпистолярно. Гарантия от двух недель до шести месяцев. «КатяМатанушкаЛтд», Небесна роад, № дома, контакты, платежные реквизиты…»
Так и хочется загрызть всю беаиндустрию! Я благодарил Бога за то, что они не показывались, не выходили из-за кустов или деревьев на тропу, куда я сворачивал, не выныривали неожиданно в том месте, где я окунался, и не взлетали в облака, где меня катал воздушный таксист. Но к этому шло!
- Опасайся медведей! – вдруг запищала Оксанка.
И Миля, взревев, резко тормознула над обрывом.
– Беа! Беа! – заверещали наперебой гаджеты, показывая куда-то вниз.
- Где? Ты видишь его?
- Не вижу… Но он есть!
Он, огромный косолапый хозяин Аляски, стал невидимо-вездесущ, всесилен, и боюсь об этом даже подумать, бессмертен, но об этом молчок, об этом и «КатяМатанушкаЛтд» умалчивает, ни телефону, ни скайпу доверять не хочет. Но мне не нужны заговоры «от укусов и нападения». Дайте, сделайте заговор, чтобы он наконец появился! Что, Катя? Слабо?
5000 долларов
- Мы тоже начинали с почты. Потом – пожарная команда. Библиотека… 15 семей – вот и поселок. Видели трубу, когда подъезжали? Нефть. Да…
Мы сидим с Джоном на застекленной веранде-террасе над озером. Отслужил на флоте. Нефтяник. Инженер. Работал на буровых, на постройке нефтепровода. Построил дом, воспитал двух сыновей. Кто - где. Внуки учатся в Сиэтле и Чикаго.
- А мы с Элис – тут, у озера. Рыбалка, охота.
- Серьезные трофеи.– Веранда была заставлена чучелами, среди которых выделялся огромный лось. - Все ваши?
– Ну, это малая часть, - и перехватив мой взгляд в сторону лося: - Хорош?
Я хотел было спросить, не жалко ли такого красавца, но мое внимание привлекли рефракторы: две подзорные трубы на треногах и телескоп на мощной станине.
– Значит, рыбалка, охота и звезды?
- Что, звезды? – переспросил хозяин.
- Увлекаетесь астрономией?
- Астрономией?
- Ну, да…
Джон встал и подошел к стеклу.
- Вам виден вон тот мысок напротив?
Дальний берег только угадывался.
- Слабо.
- А теперь представьте: туда вышел лось, вот этот. Как его взять? Здесь метров шестьсот. Оптические прицелы я никогда не любил. Смотреть в глаза жертве, нажимая на курок, это лишнее. Там – водопой. Они выходят, и если я вижу, - он показал на телескоп, - что это не лосенок или лосиха с лосенком, - беру выстрелом в грудь или шею. Только так наповал. А иначе – все, пиши-пропало. Раненый лось уйдет далеко. Это нехорошо.
- Но если вам жалко, может быть, вообще не стрелять?
- И потерять 5 тысяч баксов? Я не так богат, чтобы терять. Верно, Элис?
Супруга согласно кивнула. И чучела тоже уставились на меня в недоумении.
- Но… я, конечно, могу ошибаться, я слышал, что взрослых лосей стало намного меньше, один на десять самок, и в других штатах вообще запретили…
- Аляска – не США! – перебил меня хозяин. – Здесь лосей хватает – их больше 100 тысяч, а за год охотники берут 7-8 тысяч. Это волки – угроза. Раньше за каждого волка была премия. А теперь что? Я живу здесь 60 лет, и я должен сыну покупать лицензию и жетоны на отстрел?! Видано такое? - Элис закивала. - А эта идиотка вообще какую-то дикость придумала. Стрелять чипами! – Джон хохотнул, а Элис заулыбалась.
- Не понял… мой бедный английский…
- Ну… просто… пуля из пластика, а в ней микрочип, при ударе чип клеится к шкуре и со спутника его отслеживают. «Мы будем знать о лосе все: как живет и плодится, когда постареет и только тогда его можно отстрелить». Ну, не бред?! КэДжиБи такое не придумает.
- А что… современно, если это технически возможно. И кто же это придумал?
Хозяева переглянулись.
- Да есть тут одна, - процедил хозяин, - полукровка. Якобы из атабасков.
- Шаманка, нехристь… - вставила Элис.
- А как ее звать?
- А-а! Резервация у них там, на север от Анкориджа, по реке Матанаска. Вот и взяла имя…
- Катя Матанушка?
- Так вы знаете? И вы на ее стороне?!
- Не знаю, я не разбирался…
- И оружие запретят, отберут. Обама уже хотел, – с возмущением подытожила Элис.
- Ну, мое только вместе со мной, – небрежно заметил хозяин. – Ладно, пора за дело.
И вышел. Элис вздохнула.
Небесна роад
- А как правильно: на Аляске? Или все же – в Аляске?
- Есть разница? – переспросил инет. И мне захотелось писать его полным именем и с заглавной буквы.
Да, Аляска замечательна тем, что ни о политике, ни о бизнесе здесь ни говорить, ни думать не хочется. Вечное – вот предмет для диалога. К примеру – пермафрост – вечная мерзлота, превращающая дороги в плавно текущие полотна, в долгие синусоиды неспешных вопросов, неполных и неточных ответов. Здесь, покачиваясь на волнах вечности, немудрено уснуть, заблудиться, пропасть…
- Ой, что-то меня клонит… - сообщила вдруг Оксана, - … в сон.
И мы резко затормозили, съехали на обочину.
- Это кого клонит? Тебя? Это ты сказал?
- Э-э… Мне показалось… Оксанка… джипиэсса…
- И мне…
- Небесна роад… Место, говорят, фатальное.
- Ой, и джипиэс у нас кажется, того…
Мы огляделись. Справа и слева от дороги стоял невысокий лес, в котором нам предстояло отыскать ранчо «Медвежья берлога». Но ни съездов на проселок, никакой крыши. И понятно, ни людей, ни машин. А навигатор уснул и грузиться никак не хотел.
- Где-то здесь…
- Ну, да, с точностью до 30-ти миль.
- А что мы последнее проехали? Кажется, была почта.
- Вот та хибарка?!
- Так, давай еще вперед, обратно успеем. Хорошо хоть здесь не темнеет.
Мы проехали еще 10 миль, потом еще. Почему-то, несмотря на август, стало смеркаться и холодать. Остановились у болота, на котором вроде бы обозначился проселок.
- Ну, что?
- Туда? А если увязнем?
- Я пойду, посмотрю.
- Только недолго. И палку возьми. И телефон.
- О… Сети нет…
- Я костер разожгу. Они боятся огня?
- Кто?
- «Кто»? Все.
- Ты лучше в машине закройся и гуди, если что… Ну, я пошел.
На болоте ухнуло, чавкнуло и застонало.
- Знаешь, не ходи. Поехали обратно. Может, на почте кого-то найдем. Не ходи, садись.
И мы, включив фары, увидели, как зачернел по обочинам лес, посинели небеса.
К полуночи мы вернулись к почте. На обратном пути сначала очнулся телефон, затем, что-то бормоча – Оксанка, и от почты пошла лесная дорога. Оксана снова повела не туда, но вовремя одумалась, или брошенные авто подсказали. А ранчо открылось сразу за почтой, на берегу озера. Двухэтажный дом, круглый, точно сторожевая башня. Старуха-хозяйка, три кота, естественно, черных. Два волкодава. И попугай, обученный чертыхаться. А еще чучела медведей – везде, на каждом свободном и несвободном месте, и даже под потолком.
- А это, случаем, не Матанушка? – шепнула мне Лора, когда селились.
- Кати бояться не надо, – громко заметила хозяйка. - Разве что тем, у кого совесть не чиста.
Мари Де Грот живет на ранчо всю свою жизнь. Первый муж был ярым охотником на медведей.
- Это - все его трофеи – сотни! И какие! – с гордостью щелкает она пальцами, а попугай честит и крестит кошачье отродье. - Его книги о медведях стали бестселлерами. Сняли несколько фильмов. Грег был храбрец. Он и погиб на охоте, оступившись на склоне. Давно, в 1967-м.
Мари перебирает бахрому на платке. Вздыхает. На ее плечи легли все заботы по хозяйству. Достройка дома, оборудование котельной, ремонт почты, публикации мужниных повестей. А еще надо было растить малышку, воспитанную Грегом, седлом и винчестером. Кати не было и десяти, когда они вдвоем взяли шатуна, подравшего троих в резервации.
- А тут и у меня пошла работа по металлу, по меди и бронзе. Но я медведей никогда не лепила. Все, что попросят – да, а это – нет, никогда. Поначалу еще помогали мама, работала на почте, и второй муж, индеец-атабаск. Он служил егерем в Национальном парке, егерем по гризли. А в 1977-м не стало и его. Вот так, - покачивает она головой. – Один убивал, а другой – спасал. И дочка моя разрывалась между ружьем и ветеринарной сумкой. Сейчас – в Анкоридже. А я, значит, сама. Нет, я не могу никого нанять: это большая ответственность, я должна обеспечить работника жильем, а его у меня нет. После операции (канцер желудка) выставила ранчо на продажу, прошу каких-то 2 миллиона, за все – это и земля и недвижимость. Но кто сейчас сюда захочет? Небесна роад – место глухое…
Да, Мари живет сама, но живет не скучно, ее кошки и собачки побеждают на выставках, ее попугай научился говорить «бай-бай», но главной ее страстью было и есть ваяние.
- Ведь я - скульптор, анималист и этнограф. Олени и лоси, волки и лисы, зайцы и бобры, рыси и орлы. Это – мое, – улыбается, ласково поглаживая фигурку алеута за ловлей рыбы.
Мари - большой мастер, на ценниках: две, три, пять тысяч. Она мечтает, продав ранчо, купить в Анкоридже дом с мастерской и галереей. Там будет, кому показать. А здесь, увы, здесь сплошь охотники, они предпочитают набивать чучела охотничьих трофеев, добытых ими, лично.
- Мою бронзу они не понимают, им ближе реальный лось, чтобы можно было поговорить о нескольких сотнях фунтов мяса, о цене, по которой оно было продано. Мои попытки оживить, придать динамику, ввести в композицию интригу и даже сюжет - нет, им это странно. Они привыкли стрелять и убивать. Матанухо всегда с ними спорил. И даже ранил одного из Киллхани, когда тот перешел границу заповедника и уже целился в разъяренную мамашу-медведицу. Мой Матанухо…
- Вы сказали – Матанухо… А ваша дочь?
- Катя? Да, та самая, Катя Матанушка… А я всегда спорила с ней. И не слушайте никого, она добрая душа.
В полет
Утром я ого! Орел! Полон энергии, заряжен, как заяц-дюрасел, или точнее, как наши гаджеты. Хочется бежать, идти куда-то, снимать, записывать, удивляться… Однако день сегодня последний. Вещи собрали еще вчера вечером. Пора домой. Есть такие минуты - пустоты и тишины…
Наш мотель возле аэропорта. И они летят, взлетают, садятся, а мы уже отличаем по звуку кукурузник от аэротакси, винтовой от турбо. Мотель фанерный, слышимость прекрасная, и соседский храп плавно переходит в форсаж реактивки на взлете, а скрипу половиц вторит скрежет гидравлики и шуршание шасси при посадке. Мотель недорогой, здесь в основном местные, командировочные, они поднимаются рано, топают и шурудят, оперативно принимают душ и заводят стоящие под дверью авто. Автомобильный транспорт соперничает с воздушным, как духовые и струнные в оркестре. И вдруг откуда-то сбоку врывается железнодорожный гудок. Машинист пара не жалеет. Какой машинист - органист! Слышите, запели трубы в кирхе напротив! Трубит лебедь, рычит беа, храпит сосед за стеной, молча качается в молитве хабадник, шаманит К. М. Это обычное утро рабочего дня. Такое же, как в Нью-Йорке, Шанхае, Киеве. И разница только в том, что каждый туалетный вентилятор мечтает здесь о полете - над горами и лесами, с озера на озеро, - и поет о том своим неповторимым голосом. Доброе утро, Аляска!