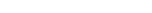Сплошное хюгге
Хюгге – это уют, простота
и непринужденность.
Счастье по-датски.
Из путеводителя
Пролог
- Динь-динь, динь-динь! – требовательно звонит за спиной, и я шарахаюсь, - могут ведь и задавить, им это можно по закону, - уступаю велосипедную и перехожу на пешеходную часть тротуара. Дания – велосипедная страна. И велосипед здесь, как говорится, больше чем поэт…
1
Я увидел его сразу – на пустой площади у одного из королевских или кронпринцевых дворцов. Он лежал на брусчатке, один-одинешенек, рядом с мелким, как лужа, фонтаном, не старый еще, лежал, как обычно лежат велосипеды, - на боку. Вокруг не было никого, накрапывал дождик, и я, подойдя ближе, шумнул на него:
- Эй, прынц, чего разлегся, вставай, нечего! – и тут же увидел цепь, свалившуюся со звездочки.
Ну и что? Это что, повод вот так вот бросить его в самом центре Копенгагена, у входа в королевскую приемную? Каким же надо быть человеком, чтобы бросить своего верного коня, своего Пегаса, Росинанта, не знаю… Среди моих друзей не найдется такого, и каких бы королевских кровей не был бы этот гусь – нет ему прощения! Или все было не так? Может быть, это он сбежал, сорвался с цепи, разорвал путы, пустился в бега? Знал заранее, что далеко не уйдет – не выходит пока у двухколесных без рулевого, - а все же рванул и вот куда домчался, хотя и знал – на верную погибель… Что же, спрашивается, за сволочь был рулевой, если верный его конь бросился от него, сломя цепь, и понесся в дождь и туман, куда светил фонарь и колеса катили? Или все было не так?..
И я поднял его, повел рядом... Куда? Оказалось, недалеко. Уже за углом увидел вывеску «Доктор Байкян».
Доктор, хотя и человек, но о байках знает, наверное, все. И не просто знает. Умеет. Я не успел еще слово сказать, а его ассистент подхватил Принца, ловко перевернул и уложил на кресло для осмотра.
Доктор обошел больного кругом, крутнул переднее, потом заднее.
- Восьмерит, видите? И резина лысовата, ну, это мы поправим. А что тормоза?.. Ничего, подтянем, цепь можно не менять, для его возраста вполне… а лучше, конечно, заменить. Задняя втулка… Тихо-тихо!
Мальчик передал ему фонендоскоп, и доктор, глядя куда-то вдаль, прислушался…
- Ну что я вам скажу… Пока его дообследуют, перейдемте-ка в мой кабинет… Вы откуда будете, из Украины? Нет-нет, такие переезды для него исключены. И не перечьте - усталость металла. По всему видать, немолодой у вас дружок. Другой бы на моем месте сказал просто: на покой, повесить где-нибудь на даче на стенку или поставить в сарае, чтобы изредка и недалеко – в церковь, в соседний парк… Но раз вы пришли ко мне… Исия, - позвал он помощника. - Занесите счет… Ну, да… И цепь, и втулку, и звонок, и фонарь, и пружину на седле… Запчасти для него сейчас не найдешь, раритет. Значит, итого - 13 тысяч 640, ну и за работу. - Доктор взглянул на меня пристально: - А вы уверены, что хотите его спасти?
Я был уверен. Иначе бы не тащил, не рисковал, не менял планы. Вот только денег, даже если не в евро, а в кронах, - денег таких не было.
- А если, не меняя цепи, просто ее натянуть?
- Просто?! - Доктор вздохнул. – Исия, Иси-я-а! Только цепь, как обычно… Да, и в виде бонуса – от меня бесплатно – новый звонок. Двести евро, - обронил, как бы между прочим. – Отдадите мальчикам.
И, стянув перчатку, - протянул руку на прощание.
- Вот сволочь! За что? – услышал я, когда мы вышли из клиники. Вокруг не было никого. И я, словно Джузеппе, закрутил головой, но голос, негромкий, слегка дребезжащий, шел даже не от звонка, а… отовсюду, что ли…
- Не пугайтесь, вы меня ведете. Да, я велосипед. Местный, датский… Но зачем вы ему столько заплатили? Это грабеж! Понаехали тут… Нет-нет, я не о вас, Джузеппе. Ведь вас так зовут?
- Ну, допустим…
- Так, так… Ведь вы из тех, кто находит. Поэтому и мое имя угадали. Да, Принц, так Гердочка назвала, мамочка моя дорогая. Ну, что вы улыбаетесь, послушайте. Вы же из тех, кто слушает.
2
Мама мыла раму…
Какие, вы скажете, у нас мамы... Нет, хозяйка – это другое... А я помню, да, Гердочке было одиннадцать, а я же с мужской рамой, понимаете, то есть до пятнадцати гоняла на мне, а потом ей купили женский – какой идиот придумал? Что, трудно надеть брюки? В брюках же удобнее, свобода… А Гердочка носилась со мной, как иные с медведиком плюшевым или с любимым гаджетом – мыла, подкачивала, на сиденье каждый раз чехол надевала, от дождя, и даже сама поменяла звонок на модный, с королевской короной на крышечке… Что я тогда понимал? Понимаешь, когда теряешь…
Знаете, что обидно? Что какому-то дому, обыкновенному жилищу не отказывают в душевности – к домовым привыкли, не говоря уже о духах лесов, озер… Авто, компьютер, джипиэс – и тех называют по имени, ласково, анекдоты даже появились. А мы – железо, резина… Да, мозга у меня нет, но при чем мозги к духу? Я так понимаю: одушевление идет от человека. Верно? А кто ему нужен – нет, ему нужны не только колеса, а и руль, и тормоза. И тот, кто не лезет со своим, слушает, не перебивает. И все же имеет свое мнение, да, обязательно. И нечего тут улыбаться. Вас что, никогда не тянуло налево, а положено направо? Однажды мы с Гердочкой разделились: она хотела направо, а я уперся – налево, и все! И вышло – прямо, никто не уступил, прямо в афишную тумбу. Трах-бах! А не будь ее, вылетела бы золотая моя на проезжую часть, прямо под колеса грузовика. До сих пор не знаю, поняла ли она, что спаслась и кто к этому руль приложил…
Нет, были у меня и аккуратные, и заботливые. Но любовь - это другое. Это, когда в ливень сначала меня под крышу, а потом уже самой. И когда в зеркальце мое посмотрится и подмигнет: мол, живем! Все классно, Принц! (И как вы угадали мое имя?) И когда никогда не бросают, а ставят аккуратно и пристегивают пояском. Сейчас многие не пристегивают, мол, а-а, ерунда, кому он уже нужен, старикан. А Гердочка всегда пристегивала, беспокоилась… Вот, видите эту наклейку у меня на раме? – это Гердочка мне на Рождество подарила…
А потом она пересела на двойной, на тандем: спереди - муж, за мужем – она, и добавились детские сиденья, и колясочка для собаки, и ящичек для кошки. А меня отдали пастору Кнуду, в село. Но это все же лучше, чем висеть в гараже.
3
Нет, в селе хорошо. Воздух и виды, и вечерний покой с тишиной. Мальвы у нас вырастают до самой крыши, и домики кажутся еще уютнее и кукольней.
Пастор был высок, худощав. Находили, что и по характеру он чем-то напоминает нашего великого сказочника. Казалось, он только отчасти присутствует здесь, в этом мире и рядом с вами, а другая его половина, или треть, или четверть – не покидает молельни или какого-то другого уединенного места. Впрочем, сельчан это не раздражало, более того – привлекало: наверное, думали они, таким и должен быть божий работник. И распорядок его, а значит и мой, был расчислен чуть ли не на тысячелетия: утренняя молитва, сборы, дорога в кирху мимо домиков с мальвами, цветущими повсеместно. Кирху окружало кладбище, пастор спешивался у калитки и вел меня по дорожке. И открывал дверь тяжелым кованым ключом. Деревня невелика, прихожан всего 33, и каждый раз, пряча ключ в карман дождевика, бросал он взгляд на четырехъярусную этажерку с одинаковыми томами молитвенников – 10, 10, 10 и еще три – все хорошо, все как всегда. И дальше каждый день повторялся, и были в нем и службы, и уборка храма, сада и могил – пастор все делал сам, и наконец, долгая молитва на сон грядущий, слишком, казалось мне, долгая для такого обыкновенного дня. И новый день…
Однажды, опуская ключ в карман, он заметил, что одной книги нет: 10,10,10, и две вместо трех. И я вспомнил новое лицо - да, на вчерашней службе, она пришла пешком, - лицо молодой женщины: бледное, слишком бледное для этих мест.
А надо сказать, пастор в селе прижился, его полюбили – за простоту, скромность и немногословие. Приходя в дом, он больше слушал и не лез с нравоучениями. Румяные сельские матушки все пытались его подкормить, нарезая ломти потолще и пошире, и пододвигая ему поближе то масло, то мед, то смородиновое варенье. Но пастор ел, как и говорил, скупо, благодарил. И неожиданно вставал: «Пора!» - И откланивался.
В тот вечер он оставил меня у ее дома, прислонив к стене в метре от окна, и хотя форточка была приоткрыта, я ничего не мог разобрать. Пастор говорил, говорил, монотонно и настойчиво, то и дело вставая и заслоняя лампу, отчего резкая и угловатая его тень вырастала на занавеси, а Мари только изредка что-то. И он на секунду переставал бубнить, чтобы снова включиться. Разговор накалялся, пастор вскакивал чаще, в его голосе появилось раздражение, чего никогда прежде не было, и мне так захотелось хотя бы чуть-чуть пододвинуться к окну, чтобы, если не увидеть, то уловить, расслышать (так потянуло!), нет, вы не поверите, но я уперся рулем в стену, каждое звено цепи потянулось вместе со мной, и сначала на микрон, и больше, больше, и вот уже сквозь щель между занавеской мелькнуло искаженное лицо мужчины - он стоял перед ней, на коленях, - а она, прижав к себе, приголубив, улыбалась ему, как ребенку. В этот момент Мари глянула в окно. Не знаю, мелькнула ли крышечка моего нового звонка или качнулась мальва - хотя нет, меня все равно из темноты не могло быть видно, – но отпрянул и вдруг осознал, что научился ходить, сам, САМ, лично, без посторонней помощи! И все происшедшее с пастором, картина, при иных обстоятельствах поразившая до самых тормозов, уже выглядела киношной, нежизненной, сыгранной, банальной.
Я долго не мог унять дрожь. Спицы натянуты до предела, крышка звонка и даже инструменты в кожаном футляре позванивали, не понимая: «Что? Как? Почему?» Я не верил, до конца не верил, что Гердочку спас именно я, и никто другой. А теперь поверил. Я мог, я сделал это! Я…
Но пастор, переполненный своим, того не заметил, дорога успокоила обоих, и спали мы крепко, до третьих петухов.
4
Мог ли я тогда понять, что произошло, разобраться в этой истории? Через несколько дней Мари уехала в столицу. Адресованные ей письма Кнуд отвозил на почту сам, сначала каждые два дня, потом раз в неделю... А еще через полгода Кнуд отправился следом, но меня не бросил, а завел к одной из матушек и подарил ее внуку, уезжавшему на учебу в художественную школу. Так я снова вернулся сюда, в столицу. Ральф оказался шустрым и любознательным. И сколько же мы объездили: и вдвоем, и с друзьями! Сначала его, а потом и моими. Весельчак Санта свой велик окрестил Клаусом, а тихоня Клаус – в отместку – Сантой! Сколько подначек, приколов! Да, хюгге без верных друзей, без любимой девушки - это, знаете ли, совсем не то!
Холмы у нас невелики, местность равнинная, зато облака летят ниже и быстрее. А кажется – это Земля спешит, вертится, крутит педали. И ты спешишь не отстать, успевая схватить натуру пристальным взглядом художника-пейзажиста. Да, я снова почувствовал себя молодым. Мы с Ральфом гоняли наперегонки – то он крутил педали, то я, а ведь он даже не догадывался!
Как-то мы докрутили до Скагена, до поросших вереском и светло-светло-зеленой травой песчаных дюн, неожиданно высоких, крутых, закрывающих море, и бросились взбираться, но как я ни помогал, велики пришлось оставить внизу, и мы вылезли на вершину: «Море! Море! Какой простор!» А я посмотрел назад: там, внизу, сваленные в кучу лежали мы, и я в том числе, лежали наши тела, железо, резина. Я смотрел отсюда, с вершины – как это получилось? – и поспешил назад, волнуясь, как бы песок не забился во втулку. Я понял тогда: есть притяжение красоты безграничной, свободной, вынимающей душу, зовущей за собой. Так море заманивает моряка, а небо – летчика. Сначала – душу, а потом и все прочее. Значит, и я не исключение? И я?!
У Анни, Ральфиной подружки, тоже был мужской велик, правда, выкрашенный в такой розовый пинк, что ей самой это казалось жлобством. И по размеру был он великоват, или Анни слишком миниатюрна для него, и хотя сиденье сидело впритык, ей все равно приходилось тянуть носочек, доставая до педалей, и езда превращалась во что-то балетное. Что, впрочем, ее не угнетало. Спинку держала ровнехонько, затылок подтягивала вверх, отчего с велосипеда глядела чуть исподлобья, словно из-под козырька жокейки. Взгляд ее серьезнел, и вся она выглядела старше. А вот спустившись с велика, улыбалась чаще и глядела проще, и казалась совсем другой, чем в седле. В кого из них больше влюбился Ралик - так она его называла, - мне трудно сказать, наверное в обеих. А мне ближе была наездница, настырная, с упрямым выгибом шеи, не уступавшая место следом за ним никому. Ее Принцесса (угадайте, кто придумал имя?), ее поросенок ленился и не успевал за нею, и я то и дело стыдил его, неотесанного селюка, доставшегося Анни от старшей сестры. И надо сказать, мои упреки, а подчас и насмешки не прошли даром. Анни расписала раму бурными сине-белыми волнами-завитками в японском стиле, добавив кое-где силуэты птиц и парусников. Розовый превратился в небо на закате, в предвестника шторма. И Ральф, одобряя возмужание Анниного дружка, работу оценил.
Год прошел в учебе и работе, проявилась своя манера, у Ральфа – тяга к пейзажам, грозо?вым и бурным, у Анни – к уютной декоративности, тонкой хореографической линии и силуэту. В июне, собираясь на пленэр, решили, что объявят о помолвке. И решили, что лучшего места, чем в Скагене, не найти.
А было то место на высоком утесе, где соединяются моря и куда уже больше ста лет приходят художники и поэты, музыканты и актеры - отдать дань огню творчества: искре таланта, пламени вдохновения, пуншу славы и пеплу забвения. Там, над обрывом читал свои стихи Джованни Трагини, гонимый поэт-анархист, писавший под псевдонимом «Люпус»1. Был он известен тем, что пересказал на датский поэму «Вересковый мед», но именно пересказал, а не перевел. У него, напротив, мальчик призывает старика принять смерть: «Уж лучше смерть принять, чем рецепт нашей медовухи врагу отдать!» И оба с восторгом бросаются с утеса. В пересказе поэма называлась «Свет победы», и в эпилоге звучали призывы хранить девственность во имя родины и творчества. Даже мне, велосипеду, весь этот героизм казался пафосным и идиотским, но ее переписывали, учили на память, разнося миф о том, что и сам Трагини-Люпус не раз испытывал судьбу, разгонялся, пришпоривая коня, чтобы резко, над обрывом, натянуть повод в последний момент. Однажды конь не вынес и сбросил его – туда, с обрыва. Но поэт чудом выжил, а застрелился почти тридцатилетним… Хоронили его шумно, о пьянстве и сифилисе умалчивали. Герой…
Как по мне, место для помолвки можно было выбрать и поуютней. Но… Кто мог подумать, предположить… Тем более, что прыгать через костер никто не собирался… Но лучше все по порядку.
В тот год Христианию2 снова пытались отнять. Хиппи уже постарели, обжились. Кто растил мальвы, а кто и детей. На смену ЛСД - гигантским радужным бабочкам и кошмарно-многоногим паукам - пришла «трава мудрости». Обмочиться от ужаса уже не считалось за крутость; кругом поселились расслабленность и кумар. Но Христиания снова забурлила. Нагероиненый Санта стоял на баррикаде, Клаус выколол на плече портрет товарища Че и рассуждал о преимуществах «кокса» и маоизма, а Ральфу марились красные флаги на пейзажах, и все чаще сворачивал он разговор на «фри лав энд фри лайф». А вот Анни, Анни хотелось, как у старшей сестры – домик с мальвами и детей… Но кто же заикался об этом, когда ради искусства все принималось безоговорочно? И Анни читала вслух «Свет победы», и украшала Принцессу и себя вереском, прижившимся на ее полотнах. «Все может подождать, а холст – никогда!» При чем здесь помолвка? О чем объявлять?
Принцесса был в восторге и радости не скрывал. И я, откровенно говоря, думал: все семейные пары одинаковы – пересядут на тандем: он спереди, она сзади. А мы? А пойдут дети – что, опять нам в село, пасторов возить? Дом – кирха, кирха – дом? Э-хе-хе… Или того хуже – на свалку, не молодые уже. И все же мы спорили с Принцессой. Ведь у них своя жизнь, и нечего нам в нее лезть, пусть идут своим – человечьим путем. А мой оппонент ссылался на светлый образ «Варяга», на его бессмертные идеи, и на нашу миссию - тут он весь пружинил и задирал руль, - великую миссию соратников, служителей Храма искусства. Ссылался и предвкушал.
Утром разъехались по берегу, выбирая натуру. Ралик и Анни, как обычно вдвоем, устроились в ложбинке между двумя горками и там, держась за руки, поклялись - вот же глупые дети! – быть друзьями по цеху. Друзьями?! Как вам это нравится?
- Ну, что теперь скажешь?! - Принцесса торжествовал. - Я знал, я верил! – то и дело шептали его шины, и пузырился ниппель… - Свет! Свет! Победа! Победа! – он так пыхтел, что заднее колесо спустило, пришлось съехать с дороги, и тогда, в другой ложбинке случилось то, что отличает любовь от дружбы в отношениях между людьми. Мы лежали рядом и поняли все – от стонов до слез.
- А как же клятва?
- А что клятва?! Люди такие.
- И что теперь?
- А ничего. Вот и о помолвке молчат. Подкачали заднее, подтянули цепь. Может, и ничего.
Тогда Принцесса и завелся, и зашипел по-другому: зло и едко. Пришлось подкачивать переднее…
5
Скажи?те, а вы помните, как научились кататься на велике? Когда почувствовали, что поехали? Когда? Когда научились поворачивать… Точно! И я. Важно понять простую истину: чтобы не упасть, надо руль поворачивать в том же направлении, куда тебя клонит. Опередить падение.
…У костра было тепло, лица ярились и все светилось: и глаза влюбленных, и звезды, и лунная дорожка на воде, и наши звоночки, никеля, подфарники.
- Знаете, а мы решили пожениться! – вдруг объявил Ральф. Анни прижалась к нему, а народ, позабыв об идеях, принялся шуметь и поздравлять, толкать тосты, и я уже не помню кто, Санта или Клаус, кто-то предложил прыгать через костер, но не так, а на великах.
- Ведь этого еще никто не делал! Смотрите, как страшно: не тормознешь – и там! Я первый, я первый!
– И был первый, и второй, и третий… До обрыва было еще пространство, тормозить успевали.
- А вы – вдвоем! Вы – вдвоем! – закричал кто-то.
И вот тогда, на разгоне, я увидел, что Принцесса (как же ему удалось?!) раскрутил колесико ручного тормоза. Я видел это. И в полете над костром, понимая, как только коснемся земли и Ральф начнет тормозить, тогда уже будет поздно - Анни вылетит! – я заорал: «Держи ее!» Заорал так, что Санта и Клаус потом до хрипоты спорили, что это они, они заорали.
Но я-то знаю, как было на самом деле.
И почему взгляды Анни и Ральфа встретились над костром, и руки так крепко схватились, сцепились, хотел написать: намертво, - черта с два! И я задним колесом выбил из-под Анни предателя, и падая набок, тормозя всем, чем можно, скреб по земле, и застыл над самым обрывом.
Синяки и ссадины влюбленным не помеха. И, засыпая на его плече, Анни прошептала:
- Ты меня спас!
- Нет, это – Бог! Тебя и меня!
Эх, люди, люди…
6
- Конь, конь… Что за глупое сравнение! Ответьте, кто деликатнее вмешивается в вашу жизнь? Кого не надо объезжать? Кто не ударит вас копытом, подойди вы к багажнику? И что, после моего рассказа вы все-таки предпочтете коня?
- Кое-кто пересел на сигвеи.
- Ой, только не надо! Пигмеи! И заметьте, все с моторчиком, предатели, лентяи.
- А как по мне - лучше пешком. Больше видишь, замечаешь. Но что же было дальше?
7
Дальше?
Мои тандем не завели. Ралик – на мне. А для Анни друзья скинулись и купили женский, но какую навороченную модель! Я так и назвал: Модель! Ведь с такими формами и коррекцией седла, и автоподкачкой шин, не говоря уже о навигаторе, сонаре и автоматической коробке передач! Белая, молочная, как холст. Поначалу она в мою сторону и не смотрела, все любовалась собой в зеркальце заднего вида, пока не влетела из-за этого в гидрант и получила нагоняй от Анни. Может быть, тогда и поведали ей о Принцессе, а возможно, и обо мне… Короче, жили мы дружно, а когда сыночку пошел четвертый – купили ему первый трехколесный, и нам с Моди было кого воспитывать.
Чего можно желать? Какого еще хюгге? А? Ну, скажите, зачем им нужна была эта галерея? И где? В Христиании…
8
Нет, здесь хорошо. Как в деревне. Автомобили и тяжелые наркотики запрещены! Уют, простота… Присядешь у озера – и живешь, никуда не торопясь, созерцая. Прелестные, захолустные места…
Да… Так вот – галерея. Выставили поначалу свои пейзажи. Но спрос есть спрос, никуда от него не деться, и взялись писать портреты, тем более народ здесь интересный, а на баррикадах так вообще - яркий, геройский. И манера письма стала меняться. Я бы вам посоветовал зайти, посмотреть, красивые портреты: ярко, радужно, и лица сплошь улыбчивые, колоритные.
Что же, спросите, не так? Да, ничего. Покупают. И местные, и туристы. Значит, нашли? Значит, нужно это? Наверное, нужно.
Да… Жили-были… Открыли при галерее багетную мастерскую, небольшой кафетерий. Посидит человек, попьет кофейку, на картины посмотрит; может, и выберет… Все хорошо, нормально… Наконец, решили переехать сюда, в Христианию, жить. Домик с мальвами присмотрели. И вот стою я у окна – гости идут на новоселье. Все наши - и Санта, и Клаус… Живы пока… И вдруг, кто бы вы думали, старые знакомые - Кнуд да Мари! Тоже здесь поселились, у озера. Постарели…
Стою под окном, слушаю. Радуются друг другу. Мудрые слова говорят. Про уют, непринужденность. И запахло сладеньким, потянуло дымком. Глянул я в окно – а там блаженство, освобождение. Сплошное, стало быть, хюгге. И все, вся компания, как на портретах в галерее, все на одно лицо - точно маска у Будды.
Тогда я и рванул.
Нет, не так вы меня поняли, дело ведь не только в «травке»... И старость тут ни при чем. Кто-то сказал, что старость - когда не хватает сил на подъеме. Глупости, переключи передачу и крути, крути, браток, нечего зариться на моторчик…
А может, я просто завидую? Не знаю… Но это – не мой рай.
Короче, хочешь жить – крути педали… Жаль, цепь пока вправлять не умею. Ничего, научусь. И к вам приеду. Будьте уверены. Ведь вы из тех, кто верит?