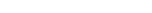Цейлон улыбается
Мама мыла Раму.
Из местного «Букваря»
Пролог
Написать об улыбке я мечтаю давно. Почему?
Во-первых, От улыбки станет всем светлей. Или вот это: – Пусть станет радостнее всем! Детские истины, как и юношеские, кавээнские – в эти истины я верю.
Во-вторых, кому же писать, как не мне. Собирать улыбки я подвизался давно, можно сказать с самого рождения, а возможно и до. Поначалу я просто складывал, а месяцев с семи уже сортировал – по людям, - маме, бабушке, например, - и не людям – солнышку, утреннему, заглянувшему в окошко, и кошке, сытой, умывающейся... Мир улыбался весь, поскольку, глядя на ребенка, нельзя, невозможно не улыбаться. Ежедневное, ежечасное количество улыбок росло. Вот и Дедушка, делая мне потягуси, приговаривал: «Расти большо-ой! Большо-ой! Большой-большой!» Потому как маленькому как же всё это улыбие вместить?! Они переполняли, пузырили восхищенные глаза и щеки... И вываливались, выпрыгивали обратно в мир с визгами и писками. Или просто цвели непрерывно общим улыбчивым состоянием. Или...
То есть в деле коллекционирования улыбок я приобрел более чем полувековой опыт, а также - навыки долгосрочного хранения в памяти, что позволяет в любой момент извлекать, идентифицировать по месту, времени, обстоятельствам, персоналиям, всесторонне исследовать или же – просто радоваться. Характерно, что гримасы противоположного – злобного – толка сливались в моей памяти в общую быстровысыхающую лужу, вызывая в ответ не злобу, а недоумение и горечь.
В-третьих, изучив работы Питирима Сорокина о видах любви, я понял, что не только могу, но и обязан классифицировать улыбки, раскрывая генезис, движущие мотивы, формы и характер, тенденции...
И я чуть было не пошел этим путем - путем научного исследования. Слава Богу, меня вовремя осенило. Какие исследования?! Это же просто смешно! Важны не типы, а живое чувство наслаждения увиденной! Пиши о каких угодно, но непременно подаренных тебе лично. Коллекционируй, пожалуйста, но демонстрируй как унику, как редкую монету, разглядывая через лупу или даже – микроскоп. (О телескопе я поначалу и не думал...)
Вот тогда, словно Паганель за бабочками, я и помчался по миру.
Это было восхитительно! Сотни, тысячи, миллиарды улыбок! Возбуждая ответные, они множились, подтверждая вывод об уникальной способности Человечества воспроизводить их в рекордных для Вселенной количествах, причем независимо от уровня экономики или культуры. Однако же попутно я понял, что не всякую оскалообразную мину следует принимать за Улыбку. Штаты, Европа, Китай – конечно, и там кое-где, но в целом – нет, не то, жалкое подобие... Одна суета, общества потребления и производства.
И тогда я махнул на Цейлон, на родину этой удивительной человекообразной гримасы, согласно Дарвину, доставшейся нам от обезьян. Именно на Цейлоне, где зародился Адам и согласно Библии находился Рай, я надеялся отыскать самую светлую, самую чистую, самую-самую...
1
- О-да! Аюрведа все лечит. За исключением диабета. Надеюсь, у вас не диабет?
- Нет. А вы – доктор? - В третий раз спрашиваю и он, наконец, сознается, что доктор будет к 19.00:
- А что же вас беспокоит?
- Да вот, - показываю на пятку, - мозоль или бородавка?
- О-да! Аюрведа все лечит, вы помните. Я приготовлю для Вас мазь! Видите – это бутылочка с маслом из натуральной оливы – священного дерева. Сначала смазываем маслом – вот так, по часовой стрелке. А теперь накладываем мазь – это мазь специально от того, что у Вас – накладываем и даем 30 минут сохнуть. Через 30 минут – омыть водой и так делать перед сном.
А сейчас, пока мы будем делать массаж, не трогайте! Через 30 минут вы увидите, что будет! – он подмигнул, – с вашей ногой, - и добавил заговорщицки, - сэр!
И мне ничего не осталось, как окунуться в масло массажа, недолгого, но дорогого, расслабиться и набраться целительной его силы, чтобы затем разглядывать подошву под восторженные крики сбежавшихся продавцов:
- Вы видите?! Видите! Как моментально действует! – показывал на пятку мой «доктор», которую действительно стянуло словно цементом.
- О! О-о! Удивительно! - Вы смотрите?! - Хорошая мазь! - подтверждали, кивая, сбежавшиеся, и поражались почему-то неожиданному эффекту.
- Не беспокойтесь, - сообщил мой целитель, - у меня для вас отложено еще две баночки. Берите, хватит надолго. – и явил такую уверенную мину, но тут же хлопнул себя по лбу, забыл, мол, и хлопнул теперь меня по плечу, улыбнувшись широко, по-свойски: - Я же вам еще две бутылочки оливкового масла должен, для вас со скидкой – по 50 долларов...
- Нет! нет! – тут уж и я замахал руками, - я возьму только мазь, одну баночку, вот эту, маленькую, сколько?
Так, поторговавшись, я приобрел отличную мазь, которая хотя и не помогла от того, что у меня было, но помогла от другого, и до сих пор белеет в щели между рамой и подоконником, проявляя лучшие качества оконной замазки.
2
- Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! – читаю у Даниила Хармса, и радуюсь, как точно уловил он жажду приветствовать весь окружающий мир, моргая, как клоун, и раскланиваясь на все четыре стороны света, одаривая лучистыми улыбками всех, расплываясь, растворяясь, разбрызгивая как салюты.
Как только я пересекал порог университета, где работал преподавателем, тут же начинал крутить головой, понимая, что с особенным удовольствием принимаю студенческие, причем всякие – благодарные и вынужденные, мимолетные и степенные, мотивированные и простецкие, стыдливые и с намеком. Чаще всего хотелось раскланяться в ответ, поощрить, продолжить улыбчивое общение, то есть непременно заметить, не оставить без ответного внимания, и совсем редко - сдержанно кивнуть двоечнику и подхалиму. Положение обязывало держать дистанцию, а чувство ответной радости переполняло, и я научился, склоняя голову в ответ, отражать их внутрь, собирая, как мед в соты, чтобы хватило и «на потом», для себя, и для других, и для этих заметок…
3
Если смотреть на Цейлон с орбитальной станции «Мир», отчетливо вырисовывается мордочка в шутовском колпаке. Округлые черты, ямочка на подбородке, нос картошкой или, если вам больше нравится - востренький, буратинский – вот клоунский портрет этих мест, с неизбежностью отразившийся в простецкой, провинциальной душе народа. А тут еще рядом – севернее! – огромная Индия. Сравнение напрашивалось само собой. Неужели для хитрых и коварных жителей Индостана, Цейлон щось таке схоже на Малороссию? Интересно, а помнят ли в Индии, что Шри Ланка уже более полувека – независимое государство? Параллели возникали мгновенно. И ВВП на душу населения здесь примерно равен уровню Украины, России и Индии. То есть в восемь раз ниже британского, в девять – японского и в одиннадцать – уровня США. И это тоже похоже!
- Вы из Украины? О-о! – глаза его заблестели и радостная восторженная улыбка полетела мне навстречу.
-Из Украины?! О-о!! Мы тоже – лидеры по коррупции! У нас триста министров. Триста! И у всех дети – в Европе, Америке, все в университетах. И семьи у них, не считая друзей, - хозяин кафе оглянулся, как будто именно численность кланов и была компроматом, - семьи-то большие. Вот и дай. Все – с половины. У меня – половину дохода берет местный, берет со всех. И у него – тоже – муниципальный, а там – районный, а там – областной. А тут еще эти приезжие: китайцы, индусы, кстати, и европейцев немало. Все – с половины. Зам. министра. министр, премьер, президент. А меньше – никак. Власть - восемь уровней – сплошная коррупция. Любой вопрос – дай. Видели у нас полицейские участки? Доты, дзоты, колючая проволока?
– Да, было, по трассе. Но это же, гид сказал, против этих, «тигров», террористов?...
Хозяин глянул, как рупией одарил.
– Попомните мое слово. Бунт. Путч. Сквэа, майдан по-вашему. Вот чего они бояться больше любых экстремистов. Народ дошел. «Как нам обрыдли ихни пыки…»
Он ругал власть и приезжих, плавно переходя к народу местному, мирному, наивному, который слишком разнежен, заласкан райской природой, слишком ленив, слишком заражён буддийской аскезой, покорностью карме и непротивлением, что ни о каком майдане здесь и речи быть не может.
- У нас, в Италии, их бы моментально, на второй же день… Я здесь уже больше двадцати лет, жена – ланкийка, а все никак не привыкну…
Он поливал и «верхи» и «низы», не забывая улыбаться мне, как клиенту, проявляя похвальную для сферы услуг осведомленность в наших, украинских делах. А я молча кивал, прожевывая, запивая, и не думал о том, чего в этой тираде больше: правды, коммерции или так – ни к чему не обязывающей болтовни. На сексота вроде не похож…
4
Я ни разу не слышал, чтобы ланкийцы говорили о северном соседе, то есть об индусах, наче про москалив. А услышать почему-то хотелось. Наглые, мол, арапистые… Когда-то в Туркмении при мне так поливали узбеков, в Белоруссии - поляков, в Китае - японцев…
Собственно, ну и что? Вполне мог за две недели турпоездки и не уловить. Не думаю, что они так уж от нас отличаются.
Хотя до сих пор мне казалось, что чище, застенчивей, бесхитростней и доброжелательнее индусов и не бывает вовсе.
Короче, засомневался. И погряз бы в сомнениях, когда б не улыбка. Улыбка индусская…
Ах, нету подобной на всем белом свете! Ни тени косоглазого заискивания и техасского самодовольства, коварства правоверных и негроидной развязности, панибратской харизмы наших лидеров и … Господи, чего в ней только нет! А есть – свет не небесный…
Впервые я увидел ее в 1974 г. в Москве в Кремлевском дворце съездов. Увидел и понял: врут индийские фильмы - кино, «юпитера», актерская слава прямо противопоказаны ей, настоящей.
А было так. На втором акте «Аиды» я уснул; в антракте меня растолкали и мы – киевские студенты-экскурсанты – побежали в огромное дворцовое фойе, где давали апельсины, конфеты «Суфле» и пиво «Золотой колос», занялись очереди в нескольких местах и следили, какая идет быстрее, чтобы успеть везде и отовариться каждому. Тут я и увидел индуса, - смуглого, высокого, стройного, в светлой чалме, но европейском костюме, с фирменным благородно закругленным кончиком носа и бархатными очами. Он стоял немного впереди и двигался вместе с очередью за «Суфле», отличаясь от окружающего народа скорее даже не чалмой, а выражением лица, да - улыбкой - слегка удивленной, детской и благостной. И какой-то еще.
(У Будды я такой не видел. Собственно, тогда – в 1974 - я и Будды-то не видал. Не говоря уже об улыбке Христовой. Эта же… У нас такую можно получить, - я, конечно, не уверен, но попытаться можно, - от скрещивания юригагаринской с княземышкинской… Она приковала меня. И я все поглядывал на индуса, наблюдал за ним, ловил…)
Далее произошло вот что. Или же его отвлекли, или сам он отвлекся и в результате как то вышел, выпал из очереди, потерял за кем стоял и поначалу, наверное, значения этому не придал, продолжая двигаться рядышком, но не тут-то было, народ стоял твердо, держась за того, за кем занимал, тем более, что суфле вот-вот должно было закончиться, было ясно, его не могло хватить на весь Дворец съездов. Народ двигался, брал, сколько давали в одни руки, косился на него, но вперед себя не пускал, думая, наверное, вот лох. А с другой стороны, чего лезет, мало им суфле своего, индусского?!
Впрочем, индус и не лез. Он постоял-постоял и как раз, когда мы подходили – ребята успели уже взять и пиво, и апельсины, и сюда успели как раз, как моя, как наша очередь подошла! – он постоял у прилавка и отошел. И вид у него был тот же, только улыбка – по-прежнему детская и благостная – стала еще деликатнее.
5
А еще можно сказать так: райская улыбка, то есть расцвеченная, размноженная в многодетных ланкийских семьях: в голопузой детворе, прибегавшей ко мне попрошайничать, и в старших – лучезарных юношах и лучистых девушках, и в женщинах: матерях и хозяйках, улыбавшихся мне из кухонь, без отрыва от домашней работы, - все они мгновенно хорошели, женщины – молодели, подростки казались юношами, девчонки – кокетливей и жеманнее, и что удивительно – почти такие же - детские убыбки - осеняли и стариков и старух, только, может, чуть жалостнее…
6
На Цейлон я летел 22 ноября 2004 года, в ночь после второго тура, и волновался в общем-то в меру – «Конечно, победим. Наш должен пройти. И Мороз за нас, и Кинах, коммунисты разделились...»
А в Дубае меня догнал звонок:
- Что думаешь делать? – я не сразу узнал юркин голос.
- А что?
- Ты что - не смотришь?! Они объявили Януковича! Надо идти на Майдан.
- Но я в Дубае – лечу на Цейлон, на отдых.
- А-а... Надо идти. – и отключился.
Я не сразу понял – зачем идти. А когда понял, набрал его и стал отговаривать, убеждать, что это опасно, что они – власть – сволочи, и способны на все ...
- Не ходи, Юра! Зачем?!
- Это не мой выбор. Я отговаривал. Дочка идет. Я должен быть рядом. Я должен быть рядом, – повторил.
И я увидел серую, пасмурную площадь, холод и тоску ожидания, слухи, слухи, сумерки – и вдруг – сверху с Михайловской, Софиевской, и Институтской, и оттуда – от Европейской по Крещатику - щиты и шлемы оцепления. Вот она – серо-камуфляжая масса, - наползает, шевелится. Я ощутил горечь обмана и страх за детей. И «лопатки» и «разогнать», «боекомплект» и «спецназ», а там – и Баку и Тбилиси, Вильнюс и Москва вторглись в мои мозги омоном или титаном; я стал названивать домой и строго-настрого, взял слово, потребовал – ни в коем случае!
Туда – ни в коем..! И друзьям! Всем! Скажи! Обещайте!
Я увидел то, о чем позже скажут: «Было действительно тяжело.» А я укатил. Уехал. И ждал, не сдавал, не менял пока билеты обратно. Может еще, как-то само собой рассосется… Ждал.
Так началось мое активное неучастие в событиях. С ежедневными звонками домой, с отслеживанием выпусков Би-Би-Си, и особенно - оранжевой строки новостей, бегущей на английском быстрее моего перевода, отчего приходилось ждать повтора и пробовать снова и снова. В последнем отеле, на южной оконечности острова, где по ТВ были только местные каналы – я приходил к Дайа Перера – главному менеджеру, впитавшему лучшие качества британской колониальной системы, и этот джентльмен вручал мне «Геральд Трибьюн» и пересказывал то, что видел в «Новостях», сочувствовал.
Жив ли он? Отель оказался на первой линии, на передовой…
7
Нас по-прежнему любят арабы и индусы. Хотя пора бы и разлюбить.
Мурло советского и практически неотличимого от него – постсоветского новика, каким бы «новым русским» (или «новым украинцем») его не называли – мурло это все то же, но еще наглее, беспардоннее. Собственно, а почему должно быть иначе? Вся история наша, особенно век двадцатый, сплошной эксперимент.
Впрочем, нет, это не любовь, скорее, сочувствие… И почему я решил, что любят? Улыбаются? Так они – ланкийцы - всем улыбаются – нация такая, ласковая, улыбчивая. Кстати, «Шри Ланка» в переводе со старофингальского и есть – «широкая улыбка». Правда, Д-р Точибаланда, известный шриланколог, возводит название острова к источникам 10-12 тысячелетия до н.э.: в переводе с протошумерского «Зри Ланакай» – означает «кушайте, улыбаясь!». Разве не одно и то же?
Глядя на смуглые лица островитян, озаряемые то здесь, то там, яркой, белозубой, как в рекламе «блендамеда» - но не приторной, не коварной, а бесхитростной, детской улыбкой, сверкающий то здесь, то там, - глядя на эти вспышки, я чувствовал себя, во-первых, среди своих. Во-вторых, «белым» человеком. И, в-третьих, - на сцене, под софитами, помахивая и улыбаясь своим фанатам. Если же без понтов – от таких улыбок как не улыбнуться в ответ? Как не стараться опередить - своей, сердечной и ласковой? А это, поверьте – непростая задача, когда еще издали, метров чуть не за 250 ранним утром появляется он на берегу и приветствует, размахивая зубной щеткой, и начинает скалиться, всем своим видом подчеркивая: - Какое же сегодня волшебное утро, мистер, не правда ли?!
8
Раннее утро. Я вышел на берег, уходящий вдаль, - направо и налево, - и присел на прохладный песок, вдыхая и рассматривая мир. Солнце еще не взошло. Вот-вот. Все будто замерло, и только длинные волны вытянулись вдоль берега и медленно-медленно наползают.
На кромке рифа – метрах примерно в ста от берега, волна приподнимается, накатывает на низовик, нависает и движется к берегу, бычась, пенясь и валясь. Пауза между волнами здесь дольше, и сами они - длинннее, многосложнее, нежели чем у гекзаметра морского. Океан.
Волна заходит далеко, шипя и пузырясь, большей частью уходя в песок. А то, что осталось, нехотя отступает обратно, дожидаясь новой, подкатывающей. Волны идут шеренгами, или лучше сказать – цепями, словно каппелевцы или омоновцы, но берег их не боится, выстрелы не звучат. В ответ негромко шумят пальмы.
Навстречу волнам сначала выходит полоса пляжа, неширокая, метров двадцати-тридцати, затем - линия рыбацких поселений (еще метров шестьдесят-сто), а также отелей с фасадами, выходящими на узкое прибрежное шоссе; за ним – по другую сторону – всевозможные лавочки, магазинчики, кафешки (в два или три ряда, не далее как в 120 – 150 метрах от берега), следом – старая железная дорога, не прямая, но рабочая, по которой позже пойдут облупленные электрички.
Там, за линией «железки», на расстоянии примерно 250 м от берега начинается подъем на холмы, в меру застроенные одноэтажными домиками.
Зона полного разрушения в результате цунами 26 декабря 2004 г. и составила 250 м. Запомним эту цифру.
9
«Голову старика» резчик демонстрировал молча. Встал на скамеечку, поднял ее, словно факел. Я смотрел снизу-вверх, с любопытством, – а «старик», напротив, - свысока, надменно, чуть не с презрением. Мастер опустил ее к полу - и лицо старика приобрело выражение ироничное, насмешливое, кокетливое. Наконец, поставил вровень, глаза в глаза (вот она - идея срединности) – и старик ушел в себя, являя равновесие и равноудаленность, и легкая тень спокойной улыбки, - нет, даже не улыбки, а ровной благожелательности, безмятежности, - прикрывала дверку в иной мир, в иную эпоху.
Сколько еще смыслов я увижу в нем? 500 – как воплощений Будды? Или достаточно этих – трех? Я дивился увиденному, а перед глазами стоял «Мейерхольд» работы Владимира Филатова, тоже живой, меняющийся, но совсем другой, о котором ниже…
Генри – резчик по дереву. Маленький, чем-то похожий на священника из «Пятого элемента». А вот чем: живенький, худенький, глаза блестят, и поболтать за работой не прочь.
А глазки блестят от арака, местной самогонки. Он бегает домой, здесь недалеко, метрах в 80 от берега, хлебнет – и сюда. А может, и не только арак. «Травка» – натуральная, если знать меру, но...» Видимо, из-за этого «но...» и сам ганджой не балуется, и мне не предлагает. Работать надо. Трое взрослых детей – от 16 до 23 – деньги нужны на учебу.
- У нас курят для кайфа, а у вас, в Европе, - из-за проблем. Оно и понятно – живете сепарейтед, дети отдельно, старики сами. Хэпибёзды, Хэпиньюеа – два звонка в год. А почему? Коляски! Вы возите детей в колясках, а наши женщины носят, прижимая к груди, и спим мы с детьми в одной комнате, много детей!
- У нас женщина зависит от мужа. Я был в Европе, у меня брат в Швеции. «Представляешь, говорит, я не могу ударить жену! Она тут же – в полицию?!»
- У нас жена знает свое место – муж работает и кормит семью – жена благодарна – не корит, не пилит – и я свободен! Я не режу этих слонов, будд и прочую попсу сувенирную – я свободен в своем творчестве, я делаю – свое, и меня покупают. Вот и ты зашел ко мне.
Генри сидит на полу и режет, поглядывая на меня снизу-вверх, улыбаясь. Стул он уступил мне и потому взгляд, хитренькие глазки его полны иронией.
- У меня покупают одну, ну, две работы. Значит – за день и нужно сделать столько же. Не больше, не больше! Это у вас все – фаст-фаст (быстро-быстро – англ.) Нам незачем торопиться. Ведь мы – в раю...
Может, с тех, кто живет в раю, особый спрос? Помните, как Михаил Сергеевич Горбачев позавидовал нам, киевлянам? Хорошо, мол, вам, южанам, тепло!... Весело сказал, и люди вокруг подумали: пошутил. Засмеялись в ответ.
Приезжал он, помнится, в 1986, как раз накануне Чернобыля…
10
Цунами 26 декабря 2004 унесло более миллиона жизней.
Из газет
Сколько ж, выходит, промчалось над нами?
«Добрая» сотня цейлонских цунами.
Черная…
Каждая - по миллиону.
Ну-ка, жиды, становитесь в колонну!
Следом – кацапы, хохлы, татарва…
Что нам цунами, коль память жива…
11
Конструкция рыбацкого катамарана проста. Лодка, этакий пяти-семиметровый банан – борта ее сужаются кверху, отчего в поперечном разрезе она напоминает кувшин с узким горлом, а в продольном – правильно! – улыбку. Особую устойчивость катамарана, непотопляемость и оптимизм обеспечивает противовес - обычное бревно, немного короче лодки, часто изогнутое концами вниз. К лодке крепится двумя упругими дугообразными коромыслами. На этих дугах - поперечины с натянутой сетью – люлька, гостевое место.
- Туморой виль би ё плейс! – засмеялся Нишанта, мой френд. – Хочешь, завтра покатаем?
Мы договорились, я выдал аванс. И поутру с десяток, наверное, пацанов, погрузив меня в люльку, принялись ловить волну, чтобы перебраться за риф. После рифовой кромки волны катамарану не страшны, а здесь, разбиваясь, волна приподнимается, заворачивается предыдущей и пугает, грозит опрокинуть, перевернуть.
Пацаны суетились вовсю. Старшие выгребали, стремясь поставить лодку носом к волне, а ее разворачивало и при бортовой качке заливало водой. Мы отплыли довольно далеко, команда старалась, но, несмотря на узкое «горло», а может и по другим причинам, лодка тяжелела на глазах, пацаны не справлялись, один уронил весло, а тут как раз показалась особенно большая волна. Она пенилась еще до рифа и пацаны, побросав весла, кинулись в воду, крича мне, махая: «прыгай! прыгай! прыгай!»
Я упал в воду, - как был, в сандалиях, в одежде, в панаме, - и тут нас накрыла Волна, потащила, и если бы я зазевался, не прыгнул – быть бы мне под катамараном. Я вынырнул, глотнул воздуха и вовремя оглянулся: перевернутый катамаран несло на меня новой ВОЛНОЙ, еще большей, и нырнув, оказавшись в низовом обратном течении, мгновенно усек, «черт, догонит!» - и лихорадочно загреб вбок, спасаясь от остатков кораблекрушения. До берега была не близко, низовик тянул обратно, и пока я догреб, - выбился из сил; добравшись до берега, сидел на песке, отдышивался, искал глазами потерянную панаму. Я приходил в себя, а в глазах у меня висел катамаран, надо мной, просвеченный слепящим светом, перевернутый, огромный, добивающий неопытного пассажира – меня! И я понял – волны сами по себе не страшны, а страшны наполненные лодками и кораблями, тонущими, переворачивающимися, догоняющими тебя, нависающими и падающими сверху, когда силясь выбраться, глотнуть воздуха…
Я искал панаму. Команда весело тянула, ворочала у берега лодку, пытаясь перевернуть...
12
Йогин Свами – на улицах, в храме:
- Большая волна! Большая волна!
Он не знал слова такого - «цунами»...
Но ведал - идет
Волна – сатана...
Стена
Такого большого плача.
Стена – война!
- Господи!
Ей ничего не значит!
Зачем она?
Зачем Тебе чистые души
Твоих рыбарей – моих рыбарей?
Зачем Ты простенький рай разрушил?
И сыновей, и дочерей
Забрал у Нишанты, оставив Нишанту...
Господи! Разве не Ты говорил?
Разве Тебе Нишанту не жалко?
Господи Иисусе? Дева Мария?...
А море накатывало, накатывало, шелестя и расслабляя, разгоняя сердечную тоску, тревогу и каждой волной, как я понял теперь, извиняясь, моля о прощении.
Я вспоминаю вас, встреченных мною на побережье: ланкийских детей и женщин, рыбаков и попрошаек, резчика Генри, и хозяина кафе, и менеджера Дайя Перера и туристов: стариков, парочки в свадебном путешествии, мамаш с детьми, - я вспоминаю, и память моя сразу фиксирует метры: от моря - до лодки, до домика, лавочки, до повозки или «тук-тука» - трехколесного мотоцикла, или битком набитого автобуса, или такого же обшарпанного, безоконного как в достопамятные девяностые вагона, – и эти метры, расстояние до береговой черты, измеряемое в жизнях, отбирает надежду, и просишь, чтобы не было вас на побережье в тот страшный час… Но как просить обо всех?
Метры, как рентгены – чем ближе, тем страшней…
Потому наверное, и реквием начну с рыбаков, с тех, кто ближе всего, с его – моря – детей.
13
- Помнишь меня? – он подошел и засмеялся, заулыбался широко, белозубо. – Я вчера тянул сеть, - он показал, как, - а ты делал фото.
- Конечно, помню! – соврал я, чтобы не обидеть. Там их тянуло чуть не полсотни. – Конечно, помню. Хороший был улов! Да-а!
Улов был богат. Это чувствовалось по всему: и тянувших было особенно много – женщин, детей, стариков; суетились перекупщики, подтягивались туристы. Сеть вытащили на берег. Тут же ее окружила толпа. И деловой (староста?) приступил к сортировке. Он успевал кругом – и нахваливать товар, посмеиваясь азартно, но строго, и добавлять деньги в пачку, которую не выпускал из рук. Рыбу делили по размеру и по видам, разбрасывая на кучки, и тут же торговали, пока не продали наиболее ценное. Но и в остатке было немало. И тогда уже к нему потянулись тянувшие сеть, получая по две, по три, а кому и по четыре рыбки. Уходили довольные. Староста рассчитал толково. Так что хватило и двум калекам. Наконец, он собрал рыбаков, и что-то обсуждая скороговоркой, роздал часть пачки. На месте дележа осталась одна несчастная рыбка. «Пойзен, - ядовитая, - пояснили туристам, - ее даже собаки не едят. Рыбка же была занятная: толстенькая, с губами и глазами навыкат, гребень фиолетово-пурпурный, хвост волнистый – а чешуя – золотая! Золотая рыбка! И дышала тяжело, как в сказке. Трогать боялись, пока не прибежал какой-то малыш, схватил за хвост и зашвырнул в море. И, кажется, ничего не выпросил для себя.
14
Старику улыбнулось счастье. Тысячу, а может – миллион раз закидывал он невод, улова же еле-еле – на землянку, корыто, да старуху – еле-еле на жизнь и хватало. А тут – золотая, волшебная! Проси, говорит! - и улыбается жемчужно, бриллиантово!
Сказку о рыбаке и рыбке я помню с самого раннего детства. Когда более всего запоминается море: тихое сначала, потом – бурное, а в конце – страшное, ужасное, во гневе.
«Какая жадная!» - говорили о старухе взрослые. А я уже тогда считал, что она просто глупая; если б была поумнее, остановилась бы вовремя: на боярыне, или на царице. А то захотела: «На посылках!...» Кто же такое допустит?!
Притчу о Золотом Рыбе и здесь, на острове, иные читают, как поругание алчности. Местные китайцы видят в поведении старухи еще больший грех – самый страшный грех, наказуемый уничтожением всего рода преступника – грех, именуемый «неследование своей колее». Именно по этой причине Золотой Рыбодракон пожирает вначале старуху, потом – старика, а в конце - и все село и весь многострадальный остров. Так мне объяснили в китайском турагенстве. Рядом же – в индийской турфирме пожали плечами: «Что Вы! Все как раз наоборот! В буддистской традиции аморальность старухи уравновешивается высокой моралью Золотого Рыба – Йогина, который медитирует, созерцая отвратительный объект – поведение старухи. При этом акцент переносится с негатива на позитив, то есть мораль притчи видят не в поругании, а в том, что созерцая духовную мерзость, Йогин очищает себя, приближая Нирвану.»
Один московский режиссер-русофил признавался:
- А я, знаете ли, всегда поражаюсь, сочувствую и учусь у старика. Рыбак ведь получает от моря не сколько хочет, а сколько дают, сколько пошлется в невод – вот откуда сдержанность. Он не шибко и рад такому фарту, он будто знает, к чему это приведет. В таких рыбарях, дважды умудренных – и самим характером промысла и продолжительностью профессионального и жизненного опыта, – в таких стариках у моря и ищет Господь пророков и апостолов, медиаторов между золотой рыбкой, олицетворяющей божественное, и старухой – земное, народ…
В современной державнической трактовке намек этой сказки звучит так: «Нельзя, мол, немолодой женщине низкого происхождения давать власть». Впрочем, для сего вывода имеется столько примеров из жизни, что и сказка не нужна.
Женщины, понятно, протестуют: "При чем здесь пол". Проблему пола и власти автор снимает: золрыбка, заметьте, сама не мужского полу, а власть ей дана, чай, не кухарка - владычица морская! Дело не в половой принадлежности, и даже не в социальной жадности, а в том, что старуха сразу хочет всё – а получает старое корыто. Ее наказывают не столько за жадность, сколько за темп, за ускорение и перестройку, проведенные в шоковые сроки. Она даже не успевает насладиться, даже «понадкусувать» - вот грех! Грех безумного расточительства, ресурсообжорства. Природа, что вполне естественно, не терпит таких вывертов.
Конечно, старуха – редкая сволочь.
Но я ни разу не слышал, чтобы ответственность, хотя бы частично, возлагалась и на золотую рыбку. Хотя бы отчасти. А ведь если разобраться, именно она исполняет ничем не мотивированные, если хотите – не заработанные желания старухи, и тем самым потакает ей и провоцирует.
Объясняя поведение золрыбки, иной готов возразить, что она-де, каждый раз надеется на скромность старухи и это подтверждается ее недовольством – нарастающим волнением и бурлением морским. Она, как бог – трижды уступает старой революционерке, требующей революционного изменения ее социального статуса, проявляя при этом истинно божественное долготерпение. Золотая рыбка учит, и для этого доводит притчу до логического конца.
И все же… Есть что-то в ЗР-стратегии от «кошелька на веревочке». Надо ли так издеваться над человеком? Не лучше ли было сразу отрезать, после первой же просьбы?
А вы говорите – счастье улыбнулось?! Впрочем, может и так: помнят о них – о рыбке и море, о старухе и старике – и дети и взрослые всех рас и народов, - весь мир помнит о них, - разве это не счастье?!
15
Увидеть Землю…
Для этого совсем необязательно быть космонавтом. Собственно, оттуда и не видно ничего. Гладь, ни цунами, ни революций. Космонавты, а равно и герои вообще - надмирны. Поэтому лучше всего оставаться обыкновенным человеком, с какой угодно буквы, лучше с маленькой, дабы не конкурировать с Богом.
Путешественник, рожденный за «железным занавесом», безусловная находка, как для Творца, так и для лукавого. Ему интересно все – и подчас отнюдь не в силу уникальности предмета, искомой достопримечательности, сколько по причине твердой неуверенности в завтрашнем дне. Вдруг лавочку прикроют, дверку захлопнут… А вдруг не хватит заплатить за перевес?...
С возрастом прибавляется еще и возрастное: а взойду ли? и как перенесу? и не схватит ли, не дай бог, по дороге? а то еще – не помру ли я на этой мулатке? - сомнения, столь характерные для категории «зрелых метеористов».
Опять же – революции.
И потому они - мы понимаем – надо спешить!
Потому и ползет по всему свету, толкаясь и подпрыгивая от нетерпения, спешит блошиная раса, ласково именуемая «раша».
16
Написать об улыбке я мечтаю давно. Лет тридцать, если не больше. С самого раннего детства я был обласкан, рос в любви и заботе, и великое множество улыбок отразилось в моем сердце.
И мамины, и бабушкины, обожающие и хранящие, и гордые дедушкины – на церемониях вручения золотой медали и красного диплома, и папины – поощряющие хороший пас или изящную шахматную комбинацию, а еще – россыпью – улыбки родных, и друзей, и девушек, и моих студентов, клиентов и партнеров, и читателей на презентациях книжек, и знакомых собачников, а вот и сыночка, двухлетнего, восхищенного паровозом и вагоном, в мае 1986, когда бежали от Чернобыля, а вот – боже, как время летит! – и внучки моей, о которой следует сказать отдельно…
Были, впрочем, и другие, не радостные, слабенькие, последние…
Мне казалось, я готов уже сесть за стол, приступить к работе, а тут как раз подвернулся тур на Цейлон, место райское во всех отношениях. «Вот здорово! - подумалось мне, - вот тебе и фон, и антураж, и экзотика эдемская, и безмятежность! Где еще писать об улыбке, как не в Раю?!»
17
«Как Вы думаете, почему им послано такое испытание, более миллиона погибших? – отец Иннокентий смотрит строго, испытующее, словно видит меня, давнего знакомого, впервые, и сам же отвечает в духе того, что «ложным путем идут, неправильным, и более того!...» Тут он поднимает указательный палец вверх, а следовало бы опустить вниз, так как о дьявольских происках заводит он речь – «коварен, коварен антихрист!»
Не за эти ли грехи послано цунами? Не тому богу молятся? Не православные, стало быть – язычники, значит, дьяволу поклоняются?
Отец Александр (Мень) этой связи не видел. Напротив, в каждой религии есть своя ценность, все это прекрасно: все руки, простертые к небу, - это чудесные руки, достойные человеческого звания, потому что это руки существа, которое тянется к своему Прообразу.
Меня тянет в буддистские храмы. Тянет – я понял совсем недавно – не экзотика, не отличное, а общее, родственное. И вера в единого бога, искренняя, бесхитростная. И простой быт буддистов - сродни аскетичным уставам наших монастырей. Благожелательность, учительство, чадолюбие. А гармония с миром и природой?! На память приходит грушевый сад – Бере! – в нашем монастыре в Куремаа, в Эстонии – там вызревают сладчайшие медовые груши размером с дыню?! Чудо, чудо и только!
Кстати, буддистские храмы, в которых я побывал, расположены не ближе 250 метров от побережья и, как правило, на холмах. Что это? Память о прежних катастрофах? Или божья подсказка праведным детям?
18
В многодетном пантеоне индуизма более трех тысяч божеств.
Бог Саман – покровитель горняков и ювелиров - один из них.
- Видите, - это Саман.
Мы остановились на трассе, зашли в обычный сельский двор и водитель указал на фигурку божества в домике, украшенном цветами и цветными бумажными гирляндами. - Удаянга, мой кум, очень удачливый. У него там, за домом небольшая шахта…
Навстречу нам уже шел, прихрамывая, шахтер, голый, в каске, в одной набедренной тряпке, всклоченный, изможденный, сжимая кулаки. Руки, ноги, волосы пропылены. Подошел, улыбнулся, вздохнул.
- У меня небольшая шахта, там, за домом, метров 50, не больше. Успех в моем деле, - тут он разжал кулаки – и я увидел камни, гладенькие, разные, - успех зависит только от удачливости. Как говориться, что бог пошлет в невод. Я нахожу топазы, бериллы, лунный камень и молюсь, чтобы Будда помог. Я буддист, но Саман любит, чтобы ему помолились и воздали почести отдельно. Много раз Саман мне помог. И я не забываю о нем. Был такой случай. В субботу я принес ему много красивых цветов, возжег благовонные палочки. А ночью, глубокой ночью он разбудил меня и велел спуститься и копать прямо у входа. Я послушался и нашел большой топаз.
- Вот, - указывает Удаянга, - возьмите эти три камня. Это: агат, а вот – тигровый или кошачий глаз, а этот – яшма. Это очень полезные камни. Очищают три нижние чакры, а также дыхание, укрепляют память, приносят успех во всех делах, включая денежные. Кстати, для укрепления потенции у нас рекомендуют в левом кармане носить постоянно берилл и опал, - он порылся у себя, вынул жменьку, - вот они. Но их нужно правильно подготовить: очистить и зарядить. Сначала положите их на ночь под проточную воду, а утром, помолясь Саману, вынесите к солнцу и оставьте под солнцем на целый день. Вода заберет плохое, а солнце даст целебную силу. Здесь, - он протянул листок бумаги, - про это написано.
Я взял инструкцию и камни. Расплатился.
- Значит, Вы – буддист, а верите в силу камней?
Удаянга задумался. Но ненадолго.
- Нет, - сказал он, - буддисты верят в Единого, в Будду. Но Вы все же попробуйте…
19
Итак, я решил написать об улыбке. Нет-нет, не об ухмылке отпетого нувориша, не о гримасе-намеке бюрократа на взятку, не о «чи-и-изе!» и не о клоунском «комплименте», хотя к последнему у меня отношение особое.
Об улыбке.
- А вот, солнышко, дедушка пришел! Де-едушка! – ребеночка держат - (интересно, что украинское слово «трымають» - и точнее и образнее!) - деточку приносят на руках, оборачивают ко мне, - Кто пришел? Де-едушка! Кто? А-а?
И так внимательно, глядя во все глаза, внучка моя пятимесячная смотрит и, наконец, узнает, расплывается! – И все кивают: - Да-а! Де-едушка! Да-а!
Ах, вот она, эталонная! Чистейшей воды, ангельского света, милостью полевого цветочка на теплых, бабулиных ручках.
Какой соблазн написать о ней, богоданной.
Мне всегда казалось, что сохранить, сберечь ее, несмотря на все тяготы и борения, и есть задача всей жизни, задача чрезвычайно трудная, скорее всего – невыполнимая, если бы… Если бы не светочи духа: старцы, юродивые, индийские йоги…
20
Навстречу шел маленький круглолицый монашек, улыбчивый, непонятного возраста, обманчивого у лилипутов и дурачков. Вокруг него, то забегая, то отставая, кружилась детвора. И вдруг на секунду замерла, разглядывая, как я снимаю обувь. Рагуле – так звали монашка – что-то негромко, и мне показалось – невнятно, произнес, дети убежали, а он поманил за собой, повел по храмовой лестнице, заглядывая мне в глаза и улыбаясь.
Я присматривался. Приоткрытый рот, вялый – мне на память пришли очкастые, аденоидные пейсатые дети – рот большой, влажный с беловатостью в углах рта, речь – простая, довольно логичная, но язык во рту не помещается, и еще вот это: «Nice?! No? Nice?! No?» – Ведь, хорошо? А? Хорошо?– повторяемое с надеждой и опасливостью, и к тому же чаще, чем следует. «Это мой сад! Я ухаживаю за садом. – повторял он. – Это цветы. Вам нравится? Да? – похихивая и постанывая, и смотрел на меня вопросительно, прямо в глаза, как смотрят дети или душевнобольные.
Судьба у Рагуле обычная. Семья сельская, многодетная, всех не накормишь. А здесь – воскресная школа, которую закончил, выучился дурачок, десять лет ходил за настоятелем, прошел обучение в Коломбо, вернулся и здесь же преподает.
Найс? Ноу? Найс?Ноу? – повторял он, заглядывая в глаза, и показывал цветник – его цветник, - и пруд, и сад, и музей храма – незатейливые, простенькие. Рагуле улыбался. И мне, и детям, хвостиками бегающими за ним, и цветам в саду, и рыбкам. Он улыбался, убеждая меня в том, что нужно, необходимо нужно молиться за всё, за всех и вся, всех и вся, и особенно за царя-ирода. «Да? Вы согласны?! Ведь, хорошо? А? Хорошо?»
21
Алианджелита – статный юноша 15-ти лет, вдовий сын, третий ребенок, а всего – четверо. Вот и отдала мама в монахи. Он ходит в школу, будет учиться дальше. Лик его светел. И улыбка кроткая, застенчивая. И страшные картины на стенах Храма показывает мне со страхом и осуждением, а в глазах его - не вера, а безусловное знание – было!
Сюжеты настенной живописи знакомы. «Исцеление прокаженного», а вот – «Убиение младенца жестоким царем», в центре – «Рождество Будды», и звери идут к нему поклониться и нимб священный над головой.
Любопытны местные «Каин» и «Авель». Последний, благородный раджа, узнав о планах брата убить его – сам отрезает себе голову и приносит брату, дабы избавить того от смертного греха.
Буддистское Евангелие, как и наше, состоит из баек, глуповатых народных анекдотов, если читать его с позиций воинствующего атеиста, «опустив», как читал, например, Лео Таксиль.
Можно читать с излишним пиететом, поднимая как знамя, как фетиш – тогда оно надменно и напыщенно, как власть.
А вровень? Глаза в глаза? Возможно ли, чтобы молитва была диалогом, беседой? Что же, пасть ниц? Или - на корточках, на коленях? «Стани благоговейно…»?
Новичку, ступившему на путь веры, необходимо поощрение. Намек. Дуновение присутствия. А может быть – просто улыбка?
Улыбка Будды – это приглашение, это – дверь. Будда зовет туда. Он зовет нас из мира страданий – в мир нирваны.
Иисус же – испытав всю меру страданий здесь, тем не менее поощряет жить здесь. Я не оговорился. Глубоким заблуждением является тезис о том, что жизнь наша ничтожна, так как греховна и преходяща. Подвиг то – здесь, и наш и Его. Потому Он и являет чудеса здесь, дает надежду, дарит закон любви – основу счастья и радости в этом мире.
Будда – человек вознесшийся, ставший Богом.
Иисус – Бог, снизошедший к человеку.
Будда и Иисус – два взаимных движения, круговорот человечьего и Божественного...
Десятки, сотни Будд, спящих и молящихся, в размышлении и нирване. И непременно улыбка. Храмы наполнены благостью, эманацией доброты и покоя. Даже кровавые сюжеты на стенах выполнены в безмятежной манере: композиции статичны, уравновешены, крови много, но как в боевиках – клюквенной…
Вот и наше Евангелие – не кроваво. И светлое Рождество, и успешное бегство, и свадьба в Кане, и чудеса, и проповеди, и Воскресение! Наше Евангелие – радостно, улыбчиво. Убедиться в этом не трудно. Достаточно посетить замечательный музей на Десятинной, первый частный музей украинской иконы, дабы лики святых окружили вас, радуясь неожиданной встрече.
С хозяином музея, Игорем Понамарчуком, мы когда-то вместе тренировались. Холодный, надменный, походивший на римские статуи то ли точеным торсом, то ли профилем и поворотом гордо посаженной головы. Симпатии он не вызывал. А собственно, чего требовать от партнера по спаррингу? Боец кунг-фу и должен быть таким – жестким, отстраненным.
Может быть тогда и почувствовал он разницу между ликами Будды в монастырях Шаолиня и Христа на иконах украинского барокко. Там – золотой, а у нас – румяный. Там – царственный. А Наш – патриархальный, сильськый. Улыбаются оба, но по-разному. Тот – надмирно, а Наш – «наче гостинний Хазяїн», для которого каждый из нас, каждый гость - от Бога. Потому как «Той може і любить усіх, а Наш – кожного!»
На видном месте, рядом с золотым Буддой в позе медитации – Книга посетителей (красный кожаный переплет, золотой обрез), в которую следует вписать свое имя и сумму в случае, если вы хоть сколько-нибудь опустили в щель денежного ящика; над ним - доска с именами наиболее щедрых дарителей – тех, кто пожертвовал храму более 5-ти долларов. В 2004 таких господ – шестнадцать.
- А один миллионер из Дакоты дал целых 25 долларов! Да! – восторженно докладывает Али, и, словно оправдываясь, добавляет. - В нашем Храме только два служителя - я и старший. Мы все делаем сами. А пожертвования на еду не тратим - собираем на ремонт.
Мальчик худенький, и старший выглядит не сытым. Я почему-то знаю, что Алианджелита не врет: чудесные ли дарители впечатлили, или учет и контроль, или отсутствие крутых церковных джипов у входа, без которых иные православные соборы уже и представить трудно, или босоногая простота оранжевого одеяния...
22
А назвать рассказ можно так: «Цейлон улыбается». Потому как такого количества улыбок – ярких, белозубых, а главное - чистых, искренних – я не видел нигде. Разве что ... да! Так! На Майдане. На Нашем Майдане.
О, Майдан!...
Стоило кому-то поскользнуться, не дай бог, упасть, как тут же десятки сочувствующих бросались на помощь. И теплые вещи, и продукты несли майданщикам по велению сердца. Моя семья приютила пятерых тернопольчан, разных по возрасту, но одинаково тихих и все извиняющихся за причиняемые неудобства; они не получали подъемных, а приехали за свои скромные деньги защищать революцию; каждое утро они шли на Майдан, как на вахту, «бо неможливо ж далі терпіти», но это не произносилось, а подразумевалось, «було на похмурих обличчях», и более всего подтверждало их правоту.
До сих пор войны и революции, как и цунами, были для меня словами ругательными, гибельными, с душком бессмысленной жестокости, для которой лучше всего подходит «Я не знаю зачем и кому это нужно? Кто послал их на смерть недрожавшей рукой?!» – есть такие строчки у Вертинского, о тех же киевских мальчиках, только образца 1917-го. В революциях я видел путч, а в цунами – черную бездонную пучину. И заметки эти думал поначалу так и выстроить – во взаимном отражении стихий, переводя природные катаклизмы на язык социальных и наоборот:
«И волна, как война, докатилась до Рая. О волне – о войне - я пишу, замирая...»
23
Как всё обернулось! В тот же день, 26-го декабря 2004 года, я шел утром, ясным солнечным утром, на избирательный участок, и встречные улыбались, поощряя оранжевую ленточку на рукаве. Я шел взволнованный и удовлетворенный тем, что за три недели до переголосования - а вернулся я домой 7-го - мгновенно включился и смог кое-кого убедить.
Я шел с надеждой, возбужденный и радостный. Нервничал, конечно. Кто знает, что будет? Что нас ждет? Что они еще вытворят?!
А гордость переполняла, - за себя, за семью, что трусливых моих звонков не послушала, за друзей – всех друзей, оказавшихся «нашими», за всех наших киевлян. Я шел с надеждой на высшую справедливость и дышал прерывисто, но уверенно и свободно…
Я шел с надеждой...
А там уже шла волна...
Не эта ли эйфория прошла по Майдану? Прошла и уравняла фарс с обеих сторон. Концепция веры в справедливость модифицировалась в концепцию выбора меньшего зла. И только память хранит то чувство единения, в основе которого - и уважение и любовь к ближнему.
«Да! Да! – Именно чувство братской любви! – Я был в Москве в августе 1991, - рассказывал о. Иннокентий, - я стоял в живом кордоне и отношение соратников помню хорошо. Это было уважение, уважение к тем, кто не побоялся, к себе самому. А здесь на Майдане, - другое, больше. Да – это была любовь… Любовь невероятной чистоты, исполненная веры, смелости, страсти. Я знаю, в моей жизни такого больше не будет. И пусть фоном были политтехнологии, мошенничество и грязь. Но я ощутил, я прикоснулся к чуду. Именно это всеобщее чувство и спасло Киев от кровопролития…»
Он замолчал, задумался. И совсем уже другим голосом, словно отвечая кому-то:
«Да-да, в этом и есть важнейший результат революций, - не в разрешении социальных противоречий – а в этом недолгом чувстве – чувстве всеобщей любви… Так было здорово, так пьянило меня…»
24
С антикваром я познакомился накануне отъезда. Рассматривал витрину, а он, поглядывая снизу, наблюдал за мной; наконец, поднялся, и, колыхая животиком, вышел ко мне, пригласил.
В зальчике было сумрачно. Пообвыкнув после яркого солнца, сначала увидел я камни, раковины, золотые, серебряные безделушки, затем – коврики, статуэтки, шкатулки, ящички, мешочки. Работал кондиционер, и я не торопясь переходил от витрины к витрине. Хозяин следовал за мной, отпирая и запирая, отвечая по необходимости на вопросы, и, наконец, предложил:
- Вот два практически неотличимых цветка. Возьмите.
Я взял. Черные резные бутоны на эбеновых же гладеньких ручках.
- Это нераспустившиеся цветы лотоса. Ванавасаны, йоги, живущие в джунглях, глубочайшим сосредоточением и медитацией раскрывают их, и восхищенные лунно-белым сиянием цветка, являющего само совершенство, погружаются в нирвану... И знаете, сколько они стоят? – и упредив мою попытку вернуть, - Ничего, подержите; это любопытно, что Вы почувствуете.
В этот момент его отвлекли. Я же рассматривал бутоны, больше похожие на кувшинки, и ощущал, как ловко, словно два эстрадных микрофона, умещаются они в руках, и остается только решить, в какой же из них петь, то есть молиться…
- Впрочем, - хозяин вернулся, - мне кажется Вы поймете…Я могу Вам предложить нечто неизмеримо более ценное… У меня для Вас припасены басмы. – произнес он значительно. - Редкие басмы.
Басмы? В голову полезли краски для волос: хна, басма…
- Это краски?
Антиквар улыбнулся.
- Басмы – это многократно – сотни и тысячи раз пережженные окислы металлов: золота, серебра, ртути… Некоторые йоги, имеющие неограниченный запас времени, только и занимаются тем, что вновь и вновь пережигают басмы.
- А зачем они? Для чего применяются?
- Не торопитесь. Вы же, наверное, не знаете, что известны пятисот и более летние басмы, пережженные десятки и сотни тысяч раз, которые, естественно, ценятся очень высоко.
- Но все-таки… Это что – лекарства? Наркотики?
Он покачал головой, вздохнул.
- Я же объясняю, что для старинных, антикварных басм их обычная полезность уже не имеет решающего значения. Проблема состоит в том, что отличить «новоделы» от действительно древних невозможно. Обычно полагаются на порядочность владельца или продавца.
- Так они бесполезны?
Антиквар на секунду задумался.
- Хорошо… У Вас в руках два эбеновых цветка. Совершенно одинаковых, заметьте. Но одному – сто лет, а другому двести семьдесят. Второй и стоит в десять раз дороже. Почему? Два идентичных… Почему? – и, не дождавшись ответа, заключил, - Время. В них накоплено время. А в басмах – еще и действия. Вы никогда не задумывались, почему особую ценность представляют документы, отражающие эпохальные, переломные события? Плотность действий в единицу времени резко возрастает. И не важно, о чем идет речь – житиях пророков или революциях. Действенное время в чистом виде имеет свою, особую ценность. Иначе бы за них не платили. И хорошие деньги. «Время – деньги.» Верно ведь? А-а…
И он поманил меня за собой, повел по дому, по коридорам.
Дети, глазастые, женщины в разноцветных сари, кивающие с улыбкой, худой красноглазый старик в кресле. Казалось, в доме живет несколько семей. Мы поднялись по лестнице, и антиквар, усадив меня в кресло у резного, инкрустированного перламутром и самоцветами столика, достал из сейфа кованый ларец, повернул два раза ключ, как потом выяснилось – довольно затейливый, открыл крышку и там, на черном бархате нутра я увидел стеклянный цилиндрик со стеклянной же притертою плоскою крышкой. Аптекарский, но без наклейки.
- Это Золотая Семейная Басма Эриханидов. Ей две тысячи семьсот одиннадцать лет. Свами Эриханид 112-й приезжает сюда два раза в год, пережигать. Да Вы видели его – старика в кресле. Предание гласит, что она пережжена более 20 миллионов раз! Естественно, она не продается. Я только хранитель. А она хранит мое дело. Вы же понимаете, доверие в бизнесе…
Басмы я все же не купил. Зато накупил у него кучу безделушек, и эбеновый цветок, не столетний, конечно, но совершенно такой же, хранящий минуты и секунды его магазина, дома и рассказа, а еще – доверие завороженного туриста, такое хрупкое и, может быть, самое ценное из оставшегося за последний миллион лет, доверие, оскорбленное, выжженное, преданное и распятое тысячи раз, убитое навсегда, и все-таки вновь и вновь – белым лотосом из черной пыли - растущее, приходящее, несмотря на все эти революции и цунами.
25
Гаутама… Так звали Будду. И потому имя это особое, истинно монашеское. Юноша об этом знает. И на мое восхищенное «О! Как Будду!» - улыбается с гордостью.
У нас иисусами мальчиков не называют. И Булгаков назвал его – Иешуа. Близко, но все же иначе. Среди моих друзей – два Изи. Один Изяслав, сокращаемый Слава. Другой – Израиль, предпочитающий, чтобы обращались к нему – господин профессор или Израиль Александрович. Тоже далеко. И среди православных монахов имени такого не встречал.
Что же это – пиетет? Стремление подчеркнуть божественное, а не человеческое? Православный церковный календарь отвечает: Не дерзают называть в честь Господа Бога нашего.
Что же, наверное, правильно. Стремление отдалить человека от Бога, возвысить Его над папами, патриархами, правителями объяснимо с позиций укрепления церкви и государства. А перечитаю Евангелие – другой там Иисус. Близкий и родной Человек…
26
Голова Мейерхольда разделена мастером на левую и правую части. У каждой по одному глазу, уху, по полподбородка, полрта, полноса, пол-лба и полшевелюры.
Страдание и вдохновение – две сестры – сведены-склеены по вертикали.
Метод не нов – таков же и Бродский у Церетели. И Воланд у Булгакова. Мы – европейцы – читаем и пишем по горизонтали, делим мир на право и лево. Цейлон, как и Китай – предпочитает вертикаль, делит мир на верх, низ и горизонт – середину. Резчик Генри и скульптор Владимир Филатов близки. Вот только у Генри – есть область покоя и гармонии. Филатов же правдив в конфликте.
В Музее современного искусства (тоже, кстати, частного, посетите непременно, на Подоле, Братская,14) собраны замечательные работы. Я обхожу – в который раз – голову Мейерхольда и уже физически ощущаю ее отрезанность, отделённость, чуждость простому и телесному миру, как могут быть чужеродны ему интеллигентность и старость. «Голова…», - да не голова, вот она, находка мастера! – а мозг, вылепленный в чертах конкретного исторического лица – морщины-складки-извилины, улыбка и гримаса боли… Лицо-мозг бурлит, как лава, изливаясь из самых глубин, из того интеллектуального и духовного всплеска, пришедшегося на 6 век до Р.Х. – век Заратустры, Конфуция, Лао-цзы, Пифагора, Будды, иудейских пророков изгнания – когда и была осознана великая и трагическая роль человека – роль избранного среди живого, изгоняющего самого себя из Рая, погрязшего в сомнениях, мятущегося, полного страха, тоски и сарказма, и, наконец, провидевшего Иисуса, подвиг Его и победу…
У резчика Генри – есть область покоя и гармонии. Мастер Филатов разрубил голову Мейерхольду не для утешения, он не обещает покоя - он сжимает жизнь человека в получасовый акт – именно столько и кружил я вокруг, обходя, приближаясь, всматриваясь, трогая потихоньку металл ушедшего века – Владимир Филатов сжимает ее до театрального размера, чтобы сказать – жизнь человеческая, то есть жизнь, как творчество, - именно такова, на грани боли. Тогда и творчество – как жизнь… А покой – пожалуйте, в антракте…
27
Что происходит с улыбкой, когда человек боится? То есть, когда смеяться и веселиться надо, а цензор, особенно внутренний, говорит, нет, не говорит, а шепчет, - даже и не шепчет - просто смотрит внимательно, пристально – изнутри.
Новогодний (2008 года) вечер Максима Галкина – изумительного артиста своего дела, талантища удивительного меня опечалил. Всеми фибрами ощущал я присутствие невидимки, который, несмотря на отсутствие глаз и ушей – все видит и слышит, и руки у него длинные, и хватка, если понадобится, мертвая... Вот и репризы вроде неплохие, неплохие... А должны быть – блестящие! Острые! А если острые нельзя, какие останутся? Правильно – туповатые, бледные. И читаться будут без куража, то есть еще хуже. И появятся другие репризы, не смешные, злобные, - об идиоте-азиате и «тормозе» - прибалте, о грузине, который вместо грузинского вина стал - французское... А чего с ними чикаться-панькаться?! Нечего! Учить их надо. Строить... О, вот и дудочка зазвучала, та самая, крысоловья. Тихо-тихохонько поначалу, а мелодия простая, попсовая, въедливая – и пошли, пошли. Па-ашли-и...! Ве-село! - сказано: Весело! Радостно! Свободно пошли! При-танцо-вывая!
Вот и Задорнов - ай, хитрец! - у Галкина на вечере с танца начал и танцем: (Я, говорит, впервые на сцене танцую...) и танцем без слов и закончил, а посередке текст дал, неплохой, неплохой, не острый, правда, и без задора, но в целом...
Я не знаю, какова цензура в России. Но я вижу и слышу, я чувствую – под улыбчивой маской – и у Максима и у Михаила – лицо, творческое лицо, испуганное, затаившееся, обмершее, застывшее.
Я переключил на «Вечерний квартал» - и поразился беспределу сатирического полета. Они же ни во что не ставят власть! Это подрыв государственности! Впрочем, со сцены говорили именно то, о чем думал зал, но сдерживался, взвешивая возможные последствия.
Вот, налицо результат оранжевой революции. И бояться этого не надо. От свежего воздуха еще никому не было плохо. Россия-матушка, Владимир Владимирович Путин – услышьте меня! Вашей власти некого и нечего бояться. Эти сквознячки пожара не раздуют. Пожалейте народ. И нас, соседей, братьев ваших. Дайте свежего! Откройте окна!
28
Статистика утверждает, что около 11 % населения планеты следует отнести к сексуальным меньшинствам. Здесь же, на побережье…
Blue ocean, Blue note, Blue sea, Blue shadow, Blue lagoon...
Нет-нет, конечно, и другие названия имелись у ресторанчиков и кафешек, обращенных столиками к морю, к золотым небесам на закате. Но запомнились именно эти, - то ли “голубизной”, немужественной близостью к морю и сходством цветовой гаммы, похлюпыванием – блю-блю – в бетонных кубах и конусах волнореза, или же стыдливой предвечерней беседой – одинаково женственной у набегающей волны и у завсегдатаев блю-заведений – с улыбочкой, блудливой, змеящейся, сладенькой, ядовитой, полушепотом и возможно - полупризнанием общего греха (хотя, какой у длинной закатной волны грех?). А может и - совсем напротив, - пируэтами и бесшабашностью сёрферов-смельчаков, оседлавших волну, среди которых также немало лиц иной ориентации, как выяснилось...
Нет-нет, в Блю Элефанте, я оказался случайно, я и не знал, что за публика собирается здесь, мне понравились фреши, соковые коктейли – в больших бокалах, недорогие. И обслуживание – мальчишка-половой следит: только допил, сразу бежит: “Может быть, еще, сэр? А хотите – манго-бананово-лаймо-чего-то еще, - и называет новую, неожиданную смесь, - Очень вкусно!”
Столик мой оказался у самого моря, я увлекся, наблюдая за сёрферами, и не видел, кто собирается за спиной. А когда понял... Собственно, ну и что? Ну, пришла печаль – пришла печаль по имени Алеша...
Ах, Алеша, Алешенька... Алексей Сергеич. В вузе – стипендиат, лидер факультета. Самый талантливый, первый же фильм - диплом лауреата. Через год, как пришел на студию - сразу кандидат на главного оператора, сразу, минуя ассистента... Умница, эрудит... А красивый какой! Высокий, стройный, спортивный. Греческий профиль, каштановые кудри, длинные музыкальные пальцы. Женственный, элегантный. Одевался всегда модно, дорого, с иголочки. А как пел, играл на ф-но, на гитаре! «Я влюбился в него, как в бабу!» - Золотухин - о первой встрече с Высоцким. Случай тот же. Какие девчонки заглядывались! И человек достойный, деликатный, отзывчивый и щедрый, друг верный, и партнер в делах, какого только желать...
СПИД. Боролся. Пока мог. Пока все не измучились, измаялись. Потомства по понятным причинам не оставил. Были бы внуки... Вскоре помер отец. Мама сама живет. Ходит, за могилками смотрит. Такая судьба.
Прошло без малого четверть века, как он ушел, а я не могу, никак не в силах понять, зачем добрым, талантливым, интеллигентным, зачем лучшим из нас посылается такое? И неужели все другие достоинства человека не могут перевесить, искупить этот грех?
«К одному ветхозаветному царю пришли женщины и стали жаловаться на содомию мужей. Царь призвал свое войско и повелел чтобы каждый воин принес голову мужеложца. Семьсот тысяч голов были свалены в гору.»
- И это правильно! Эту заразу надо выжигать каленым железом! – заключил о.Иннокентий, отпевавший когда-то и моего Алешку.
- То есть, и вы бы могли отдать такой приказ?
- Смог бы.
Я переспросил.
- Да, смог бы.
- А как же закон? А если хоть один – по ошибке, по наговору? Снова судим, не разобравшись, отбираем то, что не давали, это же…
- Невинных примут как родных. А эти… Может и того, кто Алешу твоего «наставил на путь истинный», может и его пощадить?! О детях надо думать…»
- А вот это – наш фирменный – «Блю фэнтази» – лайм, грейпфрут, ананас, манго, банан и еще ... но это сикрет! – мальчик заулыбался, радостно, игриво – и поставил передо мной бокал, наполненный до краев. Видимо, второпях он не обтер его как следует, отчего на пластиковой поверхности стола появился золотистый ободок, на который я обратил внимание не сразу.
Я посасывал густой нектар понемногу, стараясь разгадать «сикрет» коктейля. То, казалось - корица, и жгучая острота перца, горечь полынного «абсента» и даже приторная сладость «травки»– все лезло в голову, а ответа я не находил. Или не искал, увлекшись закатом и безумными наездниками на длинных волнах, умиротворенный негромким говором прибоя и приглушенной беседой посетителей за соседними столиками.
И тут, глянув на стол, я обнаружил вокруг золотистого ободка – маленьких рыжих муравьев, взявшихся неизвестно откуда, пришедших, как на водопой, и тесно, голова к голове, заполняющих все околонектарное пространство. Любопытно, что ни один из ранее заказанных мною напитков – будь-то пиво, соки или джин-тоник - не вызывал такого муравьиного порыва, такой невероятной жажды, - никто из них, напившись, не уползал, быть может они не могли оторваться, не могли насытиться. Приблизив лица мурашек цифровой камерой, прильнув к видоискателю, я увидел настойчивость и упрямство, - продукты тупого наркотического желания, - и вот уже шевелящееся кольцо замкнулось, задние полезли по телам, расталкивая, впиваясь, кусая передних...
- Ну, как, сэр! Вкусно? – мальчик тщательно протирал мой стол, улыбаясь и щуря шоколадные свои девичьи очи.
- Да-да. Спасибо, спасибо...
Все верно. Стол должен быть чистым. Волна пройдет по побережью. Стол будет чистым. Половой прав.
И цензура, и страх – нужны, как без них?
29
«Будьте как птицы небесные!»
Странный совет, воспринимаемый подчас, как призыв к безответственности, как «после нас – хоть потоп». Любопытно, что он близок и буддистской доктрине, но трактуется своеобразно.
- Наверное, - объяснял Рагуле, - вы заметили, что птицы земные ходят по земле, а птицы небесные – летают по небу?
- Естественно!
- Тогда второй вопрос: чтобы людям ходить по небу, что нужно?
- Ну-у… Самолет? Парашют?...
- Ха-а! Скажите еще – орбитальную станцию «Мир»! – Рагуле захихикал, - птицы с парашютом!...
- А как?
- А вот так.
Я не успел моргнуть, как монашек встал на голову и засучил пятками в воздухе.
- Я иду по небу! Я иду по небу! Найс?Ноу? Найс?Ноу? – повторял он, пританцовывая. Рагуле улыбался. И мне, и детям, тут же прибежавшим к нам, и облакам, и птицам, и солнышку. Он улыбался, убеждая меня в том, что нужно, необходимо нужно время от времени становиться на голову, чтобы научиться ходить вместе с богами по небу.
Лицо его стало краснеть, и он медленно опустил ноги, чуток подождал в позе черепахи, и поднялся.
- Когда стоишь на голове, кажется, всю Землю держишь на плечах. Поэтому и кровь приливает к лицу, потому что и тяжело и стыдно – редко мы думаем о Земле целиком. Только свободно разгуливая по небу, только забросив суету и встав на голову во всех возможных смыслах, и почувствуешь груз ответственности за Землю, как чувствуют его небожители.
А знаете, почему эту позу больше всего любят йоги? А? – Нет-нет, дети – не подсказывайте! Не подсказывайте! Пусть наш гость сам решит. – И вся компания уставилась на меня.
А я не знал ответа. Я пожал плечами и сказал, что не знаю.
- Когда стоишь вверх ногами – небеса радугой улыбаются. Попробуйте обязательно и вы увидите, какая красота, какая радость молиться за всех, всех и вся, улыбаясь радуге в ответ.
Рагуле замолчал, не прибавив привычной своей присказки, но я закивал, соглашаясь, обещая непременно попробовать.
30
Облачка на небе стаяли.
Пляжик мягок и шелков.
Соловьи летают стаями,
Поют на восемь голосов.
И вдруг - чудесное явление! –
Две радуги на небесах!
Дугою - Знамение.
Другой - Знамение. -
Страдание?
Иль заверение
Покоя на Его весах.
Две радуги одновременно – солнечную и лунную – я увидел ранним утром 7 декабря 2004 года, сразу, как только вышел на пляж и пошел по берегу, прощаясь. В три самолет, а тут – чудо, явно в подарок мне, напоследок. Ничего подобного, ни до, ни после я не видел, и потому мне казалось, что все только и должны, задрав голову, глазеть, и цикать языком, и вспоминать знамения иные: звезду, и комету, и огненные столбы над Уральскими горами в 1941…
Нет, никакого страха я не испытывал, а глядел заворожённо, забыв, конечно же, встать на голову, как советовал Рагуле. Радости, чудесности хватало и так. И потому я еще шире улыбался в ответ и старался опередить встречных, и радовал пляжных торговцев покупками.
А море ластилось, словно просило прощения…
31
Йогин Свами – на улицах, в храме:
- Большая волна! Большая волна!
Он не знал слова - «цунами»...
Но ведал – идет...
- Зачем она?
- Ах, милый, не будьте наивным.
А войны?! А революции?! А наркота?! А блуд?!
Ракеты, сделанные в Украине –
Упали – тут...
Таков мировой порядок.
Все в ответе за всех.
Всегда и везде...
Плачет, рыдает Нишанта,
Но слезы иссякнут,
И сон его будет сладок.
И улыбнется Свами – Твоей звезде.
32
Вот и дошла очередь до звезд. Как и рыбаки, работают звезды всю ночь.. И там … и там – огоньки. Рыболовные - на катамаранах – вытянулись в линию на ночном горизонте. Звезды – над ними, разбросаны, рассажены за черными письменными столами, поглядывая вниз, ведут они летописи-дневники.
И только под утро... Орион словно Будда лежит на боку. Лежал. Нет Ориона. Сириус еще пылает. А вот и нет Сириуса. Охранник тушит правый фонарь и направляется к левому. Редеет и рыбацкое ожерелье. Светает. Пора читать молитву и приветствовать Солнце. Пора.
У йогов для этого есть специальное упражнение – «Сурья Намаскар!» - «Здравствуй, солнце!» - комплекс из 12 асан (поз). На первый взгляд асаны простые. Но только – на первый. Важно согласовать правильные движения, ритм, дыхание и мантры – молитвы, произносимые при этом. Я подхожу, очищая сознание. Все как у нас: «Прежде всякого иного дела стани благоговейно...» Наша утренняя молитва и «Сурья...» начинаются с улыбки.