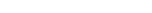Ловцы Богов или от храма к Храму
1
Оказывается, моего внука зовут Тимур. А что вы удивляетесь, откуда я мог знать, что в переводе с индонезийского «тимур» означает «восток». И хотя я почти не участвовал в выборе имени, теперь все становится очевидным: круглолиц, хитроват, осторожен, настойчив, надеюсь, что трудолюбив, а насчет мудрости - давайте чуток подождем.
Главное - подтверждается родство. Раньше я думал, что с Азией у меня корни по папе, русскому, однако родившемуся в Узбекистане, детство его прошло в Ашхабаде, юность в Ереване, а также по дедушке и бабушке, по маме и дяде - ближневосточные корни, то есть еврейские. И наконец, теперь по внуку, по имени его: оказывается, не только что монголо-татарскому, а бери шире - «Восток»! Вот почему так тянет сюда. Да разве только меня…
С какой стороны не посмотри, а Восток – детство человечества. Рассвет.
2
Рассветы я люблю больше, чем закаты. Пока - во всяком случае. Люблю смотреть, как готовится, нарастает, розовеет, ярится, и явившись - «Оджас рождает Реджас», - продолжается в нас, вдохновляя, настраивая. Великая тайна космогонии увлекала меня всегда: кто же все это создал? Когда? Зачем? Ответ: «такова природа» - никогда не устраивал. А в ожидании рассвета - тем паче.
Я приехал поздно ночью, и не успел уснуть, как началось.
Почему так оглушительно сверчат, стрекочут, или - если вам больше нравится - верещат цикады?
Что это за безумный черный кузнечик, все прыгающий и прыгающий ко мне на подушку?
Петухи здесь просыпаются раньше - ясно, «боевая» порода - и орут в кромешном, перебивая (или пугая?) друг друга.
Журчит ручей. Шелестят листья.
И снова что-то трещит, хлопочет, громыхает и туламбенит…
За этим ором и хором - и рыка Баронга не услышишь. А он есть, как ему не быть, когда джунгли рядом - на вытянутой руке.
Ага! Это у них со страху - у цикад. Озноб, заикание, трепет.
Меня тоже трясет. То есть не только меня - и весь хаус: землетрясения здесь дело обычное, но почему под утро, в четыре, почему за два часа до рассвета, а не за час или за 15 минут? Почему?
С моего балкона - вид на рисовое поле. Как на фото из booking’а. За ним – силуэты пальм, означающие, по-видимому, джунгли, и там - фотография нечеткая, - похоже, верхушка храма. В четыре утра еще ночь, густая, безлунная. Скрип и толчки вытряхнули меня из постели, но на балконе так же темно, непроглядно. Сутки здесь делят на восемь частей, а затем каждую еще пополам. 16-я ямардхья (примерно с 4.30 до 6.00) – последняя, как раз перед рассветом. С появлением Солнца и начинается отсчет.
Хорошо, что летучие мыши пищат в ином диапазоне.
И не слышно байков, пролетающих мимо хауса. Уснули и они.
И звезды молчат.
Помолчу и я…
Нет, это не будильник. Это перезвон, наш, колокольный, праздничный. Оборвавшийся глубоким нутряным пением, переходящим в завывания и рев, и опять в завывания и речитатив, и снова в перезвон. Не слушать, не вслушиваться в него невозможно. И я, прикладывая руки к ушам, всматриваюсь в темноту, пытаюсь понять - откуда, не из того ли храма или из джунглей? Или из-под поля - откуда трясет?
Восток светлеет на глазах. Молитва вознесена, голос умолк, колокольцы притихли. И тут же зазвучала откуда-то справа, дальше, а потом и слева - тише, а потом и за спиной - та же утренняя молитва, с небольшим опозданием. Я понял: они поют не хором, а по очереди, храм за храмом, молитвенной чередой.
Солнце еще за горой, за Агуном. Похожую гору в Армении зовут Араратом. Большая и маленькая. Облака розовеют и тоже включаются в действо. (Кто сейчас знает, что такое «волшебный фонарь»?) Вот самое большое из них оборотилось в Ганешу - с хоботом на полнеба. Симпатичный этот слон. Уж не он ли трубил?
Облака пепелеют. Линия восхода приближается к нам.
(Свершилось. Позвольте минуту помолчать…)
«Колесо повозки» выкатилось. Солнечный диск пошел по маршруту. Заревело шоссе.
Конец.
3
Тридцать долларов деньги немалые. Что-то около 400 тысяч рупий. Мы торгуемся долго. Ведь поначалу речь шла о 350 тысячах. Зачем было называть? А теперь? Почему «дальше»? Направление то же. Но он говорит о горной дороге. О том, что весь день – мой, будет ждать сколько надо. Хорошо, говорю. Но это все. Никаких «еще». И он вздыхает, соглашается. Но тут же добавляет:
- Только я не гид. Я с тобой ходить и рассказывать не буду. Я и говорю плохо.
- Ладно, разберемся.
Маде - водитель микроавтобуса в семейной фирме «Мама-тур». С его мамой я как раз и говорил вчера о 350-ти тысячах - толково придумано, завлекать минимальной ценой. Маде - второй сын, ему 42 («А сколько бы ты дал?» - Я дал 27.), две девочки, живут пока все вместе с семьями братьев в одной большой усадьбе.
Они - судра, из крестьян. Хотя касты на Бали большого значения уже не имеют. Все так быстро меняется.
- У моего прадеда были только ноги, дед уже папе купил велосипед, я уже сватался на мопеде, а сейчас мы сложились и купили машину.
- Хорошая, - говорю. - Японская.
- Кондиционер включить?
- Нет, Маде, он много жрет бензина. Тем более - вредно.
- Да, - кивает он радостно. - Вредно, очень вредно. Свежий воздух полезнее.
И мы катим с ветерком.
4
Нет более детской религии, чем индуизм. Я подхожу к храму и уже издалека радуюсь и предвкушаю, как Буратино, и конечно, готов обменять азбуку единобожия – постную книжицу без картинок, на кукольный театр, в котором все сейчас оживет, каждая фигурка на фасаде, фронтоне и башенках, и внутри, и будет страшно, кроваво, геройски, хитренько-мудренько, чудно и волшебно.
- 3000 божеств?!
- В каждом сельце есть еще и свои, не говоря уже о домашних, проживающих со своими семьями, - сообщает хозяйка, зажигая благовония.
Родовой храм трехъярусный, богиня сидит под крышей, в окружении цветочных гирлянд, статуэток, детских игрушек и даже куклы Барби.
- А как же вы хотите?! - девочка, дочка хозяйки, приносит бананы и мисочку с рисом. - Вот вы гость, и мы все готовы сделать для вас, хотя вы приехали и уехали, а потом, наверное, о нас забудете, - говорит она, мило улыбаясь. - А они жили и живут с нами всегда, и с пра- и пра-пра-, и мамой-папой, и после, когда мы умрем, а они будут. Вот здесь, в своем доме-храме. Значит, надо и кормить-поить, и прибирать, и возжигать благовония, и говорить с ними, рассказывать. Мой братик, Кетут, учит их играть в Майнкрафт – да!.. Сначала надо позаботиться, а тогда уже о чем-то просить, только о важном, о хорошем муже, например…
Я разглядывал богиню Кали, кровавую, многорукую, саблезубую, с ожерельем из отрубленных голов, с черепами, дополняющими ее отвратительный образ и, сравнивая с нашей Почаевской или с Мадонной с цветком Леонардо, почему-то засомневался в ее способностях свахи.
- Что вы! – засмеялась девочка. - Она хорошая, добрая. Во-первых, Кали освобождает от страданий, и всегда, всегда нам помогала. Разве мы плохо живем? – и показала вокруг: на дома родителей, братьев, бабушки, на мастерскую по изготовлению резной мебели, на три (!!!) мопеда у ворот, хаус для гостей, бассейн, сад и наконец, на рисовое поле, уходящее к востоку.
- Да, - сказал я. - Ваша Кали – гуд, вери, вери гуд. Хотя и балована.
5
Кто приезжает в Убуд? Да все кому не лень, интернационал. А вот зачем, что ищут? «От жиру бесятся, - сказала бы моя бабушка. – Чего тебе не хватает?! Сыт, обут, крыша над головой… Мало?! Ну, я понимаю – мужа найти. А то – искания у нее, а дети? Тем более – внуки! Сучки блядские, и больше ничего…»
В рекламах ритритов и ашрамов читаю: «Обретение гармонии, жизненная энергия». Молодежь, наверное, - за смыслом жизни, а эти – от старости. «Эти» мне уже интереснее…
Короче, заходя в веганское кафе, ищу того, кто постарше. Напротив меня за столиком – американец, считающий деньги. Только приехал и путается с курсом обмена? Не похоже… Деньги перебирает мелкие… Экономит? Или что?
- Наси горенг – 100 тысяч рупий?! – глядя в меню, говорю я как бы сам с собой. – А на трассе, в варунгах – 25… И порция больше. И чай.
- А там можно кушать? Не опасно?
- Напротив. Только со льдом не берите. А все горячее – и дешевле, и мне кажется, вкуснее. Тут за углом есть столовка. Хотите?
Моя задача, как сказал один великий фотограф-репортер - «проникать и проникаться». И мы с Филиппом, профессором экономики, уже сидим за углом, и я слушаю, слушаю – порции здесь хорошие, горкой. И чай в большом чайнике…
- Я бросил все и уехал – дом, работу… У меня большой дом в пригороде Солт-Лейк-сити. Дети разъехались, у них свои семьи. Вам знакомо ощущение слежки?
- Скорее цензуры, причем больше внутренней. Хотя и внешняя тоже была.
- У нас особый город, религиозный. И жена у меня верная прихожанка, и кафедра в университете, и студенты. Началось с того, что я стал замечать – мои семинары, мои знания и квалификация учащимся не нужны, их карьера определяется религиозными требованиями. И меня тоже, исподволь, под эту гребенку. Я перестал шутить, я веселый человек, люблю байки, розыгрыши, пошуметь, но как-то рассказал на кафедре анекдот о местном святом-многоженце, - молчание, напряженное, тяжелое.
«Мы приглашены к Смитам, что такое? Почему ты не хочешь?» – «Они меня не хотят». – «Не надо их смущать, говори о погоде». – «Не хочу я о погоде, я устал о погоде». – «Он рыбак, поговори о рыбалке. Ты же рыбак?» Я поговорил. Через неделю меня вызвал завкафедрой и спросил, почему я считаю, что апостолу Петру лучше было бы не менять профессию - остаться простым рыбаком. «Есть такой анекдот - говорю, - я не думал…» – «А надо думать, прежде чем говорить. Вы работаете с молодежью!» Я и вправду не мог вспомнить, говорил ли что-то подобное… А тут еще этот хор, и храм, и жена – и все по графику, по расписанию. «День сурка», вы смотрели «День сурка»?
- Мой любимый фильм!
- Я все оставил, собрал вещи и уехал. Почему сюда? А почему я должен следовать ее плану, их плану, их образу и подобию? Каждый день, с утра, одно и то же?!
- Так это у вас отпуск, или как?
Филипп покачал головой.
- А кончатся деньги – вернетесь?
- Сегодня бы кончились. Но мне сегодня утром, понимаете, в 8.00, позвонил приятель, школьный товарищ. Сто лет не звонил… мол, его фирме нужен представитель, здесь, на Бали. Платит мало, но, как говорится, на миску риса и кондом мне хватит. Есть старый анекдот…
6
Какую-то часть пути все равно приходится идти по шоссе, узкому, двухстороннему. При отсутствии тротуаров, правил ДД, а подчас и чувства самосохранения у водителей - идешь нервно, естественно навстречу потоку: так, якобы безопаснее. Впрочем, крутить головой все равно необходимо, потому что при поголовном несоблюдении «сплошной», всякий обгон чреват вылетом на обочину, то есть тебе в спину. Но настоящий ужас наводили спящие водители, коих тут сплошь и рядом. В первый же день, да и после, я шарахался от уснувших за рулем, причем чаще почему-то женщин и даже женщин с ребенком, шугался, бросая взгляд за лобовое стекло по привычке на сидящего слева, ближе ко мне, забывая, что руль у них, как у британцев, с другой стороны, и первый мой взгляд упирается в задремавшую пассажирку. Страх истинный и ложный, реальный и надуманный соединялись здесь, как и все на Востоке - причудливо, даже шаловливо: мне улыбались, приветствовали, предлагали подвезти… и тем не менее хотелось поскорее сбежать, свернуть на боковую улочку, ведущую, как и все малые улочки, к рисовому полю.
7
На рисовом поле произрастает, оказывается, все. Все сущностное для любой рисовой культуры. Кроме риса - основы рациона, кроме трудолюбия - основы менталитета, поле дает массу «попутных продуктов». И это не только рисовые панамы-зонтики, «вьетнамки», это еще и одомашненные рыбы и утки, которых запускают на поля и используют, как элементы рисовой технологии. И не только песни «трудовых будней» и «белая цапля на фоне поля и гор вдалеке» - как классический образец народной живописи. Об этом я знал и раньше.
А вот о том, что тряпки на длинных флагштоках, выполняющие функцию пугал - породили флаги, как-то не задумывался. Соседям-агрессорам сразу становилось понятно, когда против них выходили, размахивая, как бы отгоняя, точно птиц, поедающих наше - не ваше! - зерно. В то первое предрассветное утро это они хлопали, и трещотки трещали, прогоняя незваных гостей и ночью.
В то утро, в косых лучах только что показавшегося солнца я увидел (это надо увидеть!) - рис породил Дракона, волнообразные травостои на меже, контрастные по сравнению с участками, где рис уже убран или только подрастает, прекрасно передают и синусоиду драконьего тела и гребни-плавники на спине чудовища. И роль межи - основы права в сельской общине.
Страшно подумать, сколько народу погибло на межевых войнах… Вот уж точно - драконье порождение правового института!
Впрочем, именно здесь, глядя на колыхание межевых драконов, я понял, что они не только разделяют, но, как и всякие границы, объединяют людей. А здесь, в Индонезии, в особенности. Оказывается, житель села имеет право убирать урожай на любом поле, у любого из своих соседей и односельчан! Такова древняя традиция, возникшая, возможно, от любви к Дракону. Хочешь - собирай урожай! - говорит правило. - Пожалуйста, но десятину бери себе, а 9/10 - отдай хозяину. Представляю, скольких воришек они перевоспитали. Ото, зловили Грицька на гарячому, покосив у сусида, а ему не морду ни бьют, ни вилы в бок не суют - исполни, говорят, брат, то, как у нас испокон повелось, и иди с миром. Почему-то сдается мне, доброе слово, помноженное на совесть, свою роль непременно сыграет…
8
Вишну, как считает Википедия, слово неизвестного происхождения. Собственно, так и должно быть. Если бы мы знали, что в его основе нечто иное - другое слово, обозначающее что-то другое, - тогда, извините, какой же он бог, то есть первопричина, первооснова? А если он бог, то есть тот, кто дает имена, значит, его имя должно быть исходным, а не производным.
- А как вы узнали имя бога, из Вед?
- Мы знали его всегда. До Вед были другие книги. А это важно - как?
- Мне интересно. Пришел к людям и говорит: «Я - ваш бог, Вишну…»? Или открылось йогинам в особой медитации. Или священные книги… Как думаешь?
Путу не отвечает. Вечер, стемнело, он должен следить за дорогой, пробиваясь сквозь мириады мопедов и байков, обгоняя там, где можно и нельзя, помигивая и погудывая и тем, кто несется, и тем, кто безмятежно идет по обочине.
- У вас, - продолжаю, - у местных, балийцев, все просто. Вайан - первый ребенок, Маде - второй, Неман - третий, Кетут - четвертый… А ты почему - «Путу»?
- Путу - это то же что и Вайан, так у нас, на севере говорят. А на западе Вайан - это Геде.
- А Вишну везде Вишну. И в Индии. И на Цейлоне.
- Точно, - задумывается Путу (он же Вайан и Геде). И смотрит уже куда-то вдаль, а не на дорогу.
- Э-э! – говорю. - Ты не отвлекайся. Или сбрось скорость-то. Хати-хати! (Тише, не спеши!)
- А Вишну везде… - повторяет он в задумчивости и глядит уже не в темноту, а в себя то есть далеко вдаль и глубоко внутрь. А машина маневрирует сама – счастливая, освобожденная.
- Хати-хати! Э-э! Путу! Вайан! Геде! Ты… это!.. – нет, надеяться не на кого… на машину? Или все же на Бога, ведь я знаю, как к нему обратиться.
9
9
Разговорились на экскурсии. Андрей и Настя – молодожены. Расстояние от Балашихи до Москвы - огромно, а до Кремля - на порядок дальше. Тоже Россия. У Андрея свой бизнес.
– Небольшой, но свой! – говорит он с улыбкой.
«Маркетинг цветов и садовых растений». Торговля через интернет.
– Вот вы говорите, либерализм, свобода. Нет, все должно быть в меру. Кому нужны эти ваши майданы? Что вы выиграли? Вот я развожу цветы, это мой бизнес. Так вот, цветы, как дети, на них тоже бывает надо прикрикнуть, припугнуть. Вы не поверите: пригрозишь бывало: выполю! И назавтра уже не болеет, не привередничает. Нет, у нас много хорошего. И для детей, для молодежи, кружки, спортом стали заниматься наконец, площадки строить, надо занять молодежь. А какую хорошую олимпиаду провели, столько настроили, красота! Поедем, а? В Сочи? - спрашивает у женки.
- Но вы же смотрите новости в Интернете? – говорю. – И на каналах ТВ? Неужели не видите, куда страна сползает?
А он кивает, и верит, и не верит, хочется верить в хорошее. Андрей – оптимист, но ищет поддержки.
- Настя, скажи товарищу, ведь мы живем лучше?!
Но у Насти один вопрос:
- Почему одна страна диктует всем вокруг?
- Вы имеете в виду Россию?
- При чем здесь Россия? США, конечно…
10
- Рано или поздно и ты окажешься в положении, когда оно начнется – разрушение, – и тебе придется латать оборону, затыкая дыры уже не резервами, а снимая с других, менее важных фронтов, отдавая врагу все больше и больше, сначала захваченное, а вот уже и свое, родину, тело, здоровье, личность, чтобы в конце концов, как Гитлеру, осталось – а! – и он закатил глаза и скривил рот, что означало только одно: - Капут! – весело заключил Роми и откинулся в кресле, попивая свой ласси.
Мы сидим в кафе музея, принадлежащего самому богатому и знатному балийцу. Роми здесь свой, подопечный. И он, как и я, никуда не торопится, и ему, как и мне, все или почти все в этой жизни понятно.
Мы похожи – такие же шорты и футболки, кроссовки и панамки, седина и глазки – то ли усталые, то ли блудливые.
- Бали, а тем более Убуд как раз для таких, как мы, пытающихся замедлить. Как? Йогой или аюрведой, дзен-буддизмом или… или меценатством, – тут он показал руками вокруг, охватывая весь музейный комплекс и это кафе в придачу, - или же бизнесом, политикой, ведь и они – с известного возраста тоже совсем не для денег и власти… Я же уникален в том смысле, что мое разрушение началось в 14 лет. А теперь я думаю, что еще задолго до моего рождения. Но мне было 14, и отец сунул мне 500 баксов и сказал, чтобы духу моего здесь не было. И я махнул в Нью-Йорк, а он остался в Палм Спрингз, где я всем уже был поперек – от совета школы до шефа полиции, – ну, понятно, пьянство, наркотики, ночные гонки, порно, гонорея. Все было бы ничего, если бы не училка, которую я и заразил и подсадил, и эта дура чуть не повесилась…
В Нью-Йорке я пошел по галереям, и где нахрапом, где беспредельным цинизмом и распущенностью сразу стал центром тусовки – ведь мне было только 14! И уже через полгода сам снял галерею – шесть пустых обшарпаных комнат. Одна из моих пассий – старая 50-летняя блядь сдала мне одного совсем не публичного вангога – мага зеленого цвета, а тут как раз в моду вошел зеленый! – и я повез лучшую из картин на Бродвей! Я стоял рядом с ней и кричал, что не продам ее ни за какие деньги, потому что влюблен в эту зелень, я расписывал все ее оттенки, от конопляного до абсента на просвет, и болотные глаза трущихся вокруг меня битломанок, локти и коленки которых я лично вымазал зеленкой, сделали свое дело – через год я уже имел миллион наличманом, галерея процветала, а вангог каждый раз всплакивал, провожая меня.
С чемоданом, наполовину набитым деньгами, наполовину наркотой, я поехал домой, но попался. Посадить меня уже могли, и надолго. Половину пришлось отдать сразу. Но отец придумал, как меня спасти от меня самого.
- Или ты идешь в тюрьму, и там из тебя делают педика. Или тебя берет Берта, и ты уезжаешь с ней из страны. Навсегда!
Берта была вдовой партнера отца по Лас-Вегасу. Ей было 52, и она сказала:
- Хорошо, я его беру.
И мы улетели в Париж. Восемь лет мы прожили вместе, и это были лучшие годы моей жизни. Я стал ей и мужем, и сыном, а она мне – и любовницей, и больше чем матерью. Ведь своей матери я почти не знал – она вернулась в Индию, когда мне было полтора года, оставив меня отцу, которому я для чего-то был нужен. Моя мать была индийской цыганкой, а отец – одесским евреем. Это же у вас, в России – Одесса?
- В Украине…
- Ну, да… Моя галерея, мой зеленый и ее, Бертины, капиталы сделали свое дело: арт-стиль в одежде, авто, хаусе – это все мы, наши Бюро стиля по всему миру, наши фабрики, наши журналы, ателье, комиксы… Казалось, мы уверенно идем вверх… Она умерла от рака, а мне было только 25, но все стало пусто; чтобы забыться я покатил по миру, передав управление бизнесом близким друзьям. И через два года у меня, кроме домика на Гоа, уже ничего не было. А еще через год у меня нашли рак крови в тяжелой форме, дом пришлось продать, и я позвонил отцу, не знаю – просить о чем-то или прощаться. Трубку взяла моя мать – после 25 лет разлуки они опять были вместе, – и она взялась лечить неизлечимое. Сначала – у индейцев Мексики, затем – на Тибете, а вот уже десять лет здесь, на Бали, то есть и йогой, и аюрведой, и цыганскими заговорами. Сейчас мне 53, да, я знаю, что выгляжу на 90, но Марта – я с ней уже 12 лет – меня не гонит, и помогает мне продавать мою книгу «Умирание зеленого», не читали? История распада. Бестселлер, номинировалась на Гонкура… А вы не читаете на французском? Жаль, я бы подарил…
- Но почему же – распада?! У вас семья, мама, папа, вас печатают, живете на Бали и, как я вижу, безбедно. Не понимаю.
- Боюсь, вам и не понять. Ведь я же всю жизнь борюсь за выживание – то с отцом, то с пороками, друзьями-предателями, болезнью… Вы что, не видите, это родовое проклятье – значит, еще и с судьбой. Роком.
- Зато у вас – «судьба поэта», так у нас говорят о самом важном для творчества. Какая насыщенность жизни, какой калейдоскоп переживаний! Это писательское богатство, багаж, архив, и сколько еще можно создать. Многие этого лишены.
- Вы так считаете?
- Уверен!
- Да… Только назови я свою сагу «Оживление зеленого», я бы не продал ни одного экземпляра. Людям нужны страдания, а не счастье, и даже не радость преодоления.
- Да бог с ними! Радуйтесь!
И мы обменялись имейлами.
11
Говорят, что, повзрослев, индуизм породил Будду, как иудаизм – Христа. Причем в Евангелии детства, апокрифе, Иисус-ребенок – жесток и беспощаден, он карает детей-сверстников. Он еще Ревнитель, не склонный прощать. И вот – Метаморфоза! И борьба с «комплексом Отца»: то «Я и Он – одно», а то «Пронеси чашу…». Дискуссия, спор, доходящий до суда, казни, смерти и – воскресения. Диалог Власти и Милосердия.
Знаете, что мне особенно нравится у буддистов? Отношение к Творцу.
Нет у них страха иудейского или мусульманского, когда и само имя упоминать богохульно: Б-г - пишут они, трепеща перед ним, Ревнителем.
История о том, как Брама, творец Вселенной, беседовал с Буддой, и тот доказал, что Брама не единственный и неповторимый, есть иные творцы и иные вселенные, - эта история замечательна отделением творчества от власти.
Создатель, согласно буддистскому учению, не должен судить и наказывать, человек наказывает сам себя, выбирая тот или иной путь, деяния, мысли, привязанности. Освобождение Творца от карательных функций не означает, что к нему нельзя обратиться с вопросом, правильно ли живу, поступаю. Пожалуйста. Но Бог – не судья, не тюремщик, не палач. И это радует!
Бог-творец через Сына спасается его добротой.
12
По дороге я встретил двух разноцветных львов или тигров, вырезанных из дерева в рост человека. Львы (или, скорее, тигры – здесь их называют баронгами) стояли прямо, как солдаты «на караул», и должны были наводить ужас кровавыми пастями, вылупленными глазами, когтями, большей частью обломанными, и драконьей шипастой гривой на спине «а-ля динозавр». Между ними сидел старик без руки и глядел на меня победно, а на поляне паслись две козы – черная и белая.
- Баронги? – спросил я старика по-английски. И сделав испуганное лицо, показал в чащу. – Здесь есть баронги? Я могу туда идти?
Старый, кажется, понял. И закивал, щуря глаза и поднимая брови, мол, кто же знает, как не он.
- Ого! У-у-у! Баронг! Йесс, йеес!
И замахал культей, затопал ножками, как ребенок, пугая меня не по-детски. Козы притихли и замерли. Баронги, польщенные вниманием, вытянулись «во фрунт», и я присел, подыгрывая, прячась от ужаса джунглей. А старик вдруг посерьезнел:
- Пойзн, баронг из вери пойзн, мэни-мэни пойзн!
И мне ничего не осталось, как поверить в ядовитых львов, раскрашенных под тигров и драконов, поблагодарить за совет и пойти туда, куда старик как раз и не советовал.
13
В храм, в сельский храм без спросу заходить нельзя. И даже на территорию. Но ранним утром, если никто не видит… И потом я же шел-шел, вышел, когда еще звезды светили, когда трасса была пуста, и по ней можно было идти, не боясь всех этих рычащих и смердящих баронгов. Я шел через рощу по узкой тропинке, вглядываясь в траву, чтобы не наступить случайно на змею, помахивая впереди посохом, сбивая наплетенную за ночь паутину. Шел, шел и дошел! А вы говорите, нельзя… И потом, я же не через центральный вход, а боковой калиткой, тихо, молча, никого и ничего не трогая.
Вот только монетки. Большей частью фальшивые, латунная имитация старинных. Они были разбросаны на дорожках и в закутках по всей территории храма. Я подбирал и тут же выбрасывал подделки и вдруг - это слово я полюбил с самого детства - и вдруг нашел настоящую, древнекитайскую. О, други мои, нет никого прелестнее и страшнее Детской Маммоны, музы (или точнее – гаруды) собирательства. Власть ее безгранична, хватка мертвая. «Ну-миз-мат»… Кто-нибудь задумывался над тайной этого слова? Детским удивлением – Ну! Ну? Ну! – и интерес, и любопытство, и восторг! «Миз» - я не знаю что такое, впрочем, всякая монетка таинственна. А в конце – «мат». «Мат? На нем черти в аду говорят», - объяснил когда-то папа. Так монетки превращаются в денежки-деньги-бабки-бабло…
Я думал, что излечился, все-таки с тех пор полвека прошло. Куда там… Брожу, углядываю, подбираю втихую, тащу, рассматриваю снова и снова - а она, китайская морда, посмеивается, мол, не к вам, господа брахмы-шивы-вишны-кали-ганеши и пр. и пр., а ко мне мальчик приходит, обо мне дедушка вздыхает. За медью, за патиной, за тайными письменами на аверсе-реверсе… - да, сначала за этим, но потом монеты превращаются в порок. Не каждый маленький Жак вырастает в Паганеля, бывает, что и в Гобсека… Помни об этом, Тимур…
Китайские монетки в индуистских храмах, на земле, брошенные, никому, кроме меня, не нужные, попираемые ногами точно мусульманские (полумесяцы) и иудейские (шестиконечные звезды) символы на плитах пола в христианских (например, Софийском в Киеве) соборах.
Китайцы в здешних местах занимались и ремеслами, и врачеванием, и живописью, и торговлей, а в сознании местного народа остались ростовщиками, шинкарями, мироедами. А настало время – оборотились в маоистов, атеистов, чекистов.
Вот они, привезенные домой, сложенные в коробку. Я мыл их с мылом и щеткой, несколько раз. А все равно пахнут кровью, чужой и своей. Или такой привкус-запах у меди?
14
Резня продолжалась три дня. И три дня шел ливень, потоки окрасились в алый, а балийцы резали коммунистов, затем сочувствующих, а затем тех китайцев, которых не дорезали в первые дни. Об этом не любят вспоминать, все-таки 1965-й – не 1915-й (геноцид армян), и не 1941-1945 годы (геноцид евреев). Впрочем, если сравнить с Пол Потом, то что такое балийские 80 тысяч по сравнению с его миллионами. Говорить не о чем. Вот и не говорят, со временем все забывается. Дети и внуки зарезанных, те, которым удалось спастись, возвращаются, и к детям и внукам тех, кто резал, ненависти не испытывают. В этом, кстати, серьезное преимущество погромов – убийцы не найдены, никто не осужден, так легче забыть… А цапли, белые цапли – не забыли.
Я прочел об этом в путеводителе и поехал в село. Шел ливень, и обходя лужи, желтые от глины и поблеклых воспоминаний, я перебежал под крышу местной столовки, присел на колченогий стул, заказал чай.
- Вы насчет птиц? – спросил хозяин. – Подождите, до заката еще минут сорок.
А дождь лил и лил. Маде уснул в машине. Вокруг не было ни души, ничего не происходило, и я пожалел, что потратил целый вечер, нет, целый день бог знает на что.
- У нас есть наси горенг, хотите?
Есть не хотелось, и хозяин принес чаю…
- А в дождь они прилетают?
- И в дождь. Подождите минут десять, не больше. Хотите еще чаю?
Деревья, большие, раскидистые, уходили по улице в дождь, и за пеленой я не заметил, как прилетела первая.
– Вон! – показал хозяин. - Началось.
Я увидел третью и четвертую, и пятую, и восьмую и сбился - они уже подлетали группами и садились, нахохлясь, и время от времени взмахивая крыльями. И улица, зеленая и мокрая, побелела. И не было это похоже ни на седину, ни на белые глухие платки – символы прощания, скорби и похорон. Все кроны, куда хватало глаз, слегка шевелились, сумрак густел, а цапли все летели, садились и засыпали.
- И так будет три дня. Именно те три дня, - сказал хозяин. – А началось это ровно через год после событий. – Уже 45 лет, да, каждый год, каждый год…
- Я слышал, должно пройти три поколения. Семьдесят-семьдесят пять лет, не меньше.
- Да, те, кто застал, должны уйти. Мне было шесть лет, я ничего не помню. Почти ничего.
- А вы местный, жили здесь?
- Мне сказали, они все уехали.
И все же я не мог понять: для индуиста корова священна, а тут – людей, соседей резали как скот. Как такое случилось? Где объяснение? Но спрашивать об этом я не мог.
- Маоисты разрушали храмы, – заговорил Маде, когда возвращались. - И большие, и домашние. Это – счастье, что мы их выгнали. Иначе было бы как в Китае или Кампучии.
- А птицы? Как думаешь? Что это значит?
- Говорят, это детские души. Все-таки они не виноваты.
15
Боробудур! Боро-б-удур! Слово встает на цыпочки, рассматривая себя на фоне восходящего солнца. Бо-ро (восхищение растет, помните принцессу Будур?) – б-у-у (какая вершина! Как вокруг красиво! Как я сама хороша и прекрасна!) – и вниз, с холма, к морю.
А теперь представьте зеленое море джунглей и в этом хаосе – многомачтовый корабль-храм идеальной симметрии. Рык, рев баронга доносит из чащи: Боро-о-о – буду-у-урррр... На таком запредельном низком, глубинном. Восходит из недр и - возвращается в вулкан. Боррррооообуууудуурр….
Храм выстроен пологой пирамидой, каждый ярус которой – четыре соединенные квадратом галереи, открытые небу, справа и слева украшенные рельефами, на которых боги живут, как люди, они вернулись на Землю и радуются, как дети, а люди - празднуют вместе с ними. Почему вернулись? Хороший вопрос! «Во многия знания – многая печаль». Это ведь не про людей - про богов. А забыли, стерли знания, впали, так сказать, в детство цивилизации – открывай заново, дерзай, живи и радуйся! Естественно, наши боги стали царями, добрыми царями и справедливыми, и не такими жадными-кровожадными, как у других народов. На каком-то из рельефов те, другие, связаны, они рабы, впрочем, они рабы и там и здесь. Только там их понуждают убивать и грабить, а у нас их развяжут, накормят, им улыбнутся, и ошарашенные тем, что их сразу не убили и не съели, они с радостью примут сытое и веселое рабство, и будут служить не за страх, а за совесть.
- Париж меня поначалу увлек, - рассказывал Санни, хозяин арт-ритрита, провожая к моему домику, - мне все было внове, ведь я из глухого села, из глубинки Суматры. От меня ждали гогеновского разноцветия и бытовых суматрянских сценок, и я работал с чистым цветом и марал холст за холстом, припоминая бабушкины сказки и наши обычаи, слегка сбрызгивая этот наси горенг соусом модных философских бредней, нахватанных в кафешках Монмартра. Все было прекрасно, я верил, что схватил судьбу за хвост, и статья Люси Галь – она тогда задавала тон в парижском, а значит и мировом галеризме – сделала меня за одно утро известным и за два вернисажа – финансово независимым. Я прожил с ней почти двадцать лет, прислушиваясь к тому, что хотел бы получить заказчик, – она чувствовала каждого, она знала каждого, она очаровала каждого из круга самых успешных галеристов. Все делала ради меня… И только возвращаясь с ее похорон - закрыв дверцу фамильного склепа, проходя по аллее к выходу, садясь в машину, вставляя ключ в замок, омывая руки в ванной и глянув на свое отражение (все эти кадры у меня перед глазами, точно фотографии в альбоме), - я вдруг осознал, что от меня, Саннита Саванабори из Комиру, ничего не осталось. И я оплакал и ее и себя, и уехал, разделив оставленное мне между всеми ее детьми.
Мы идем по саду, накрапывает дождь, стемнело, и Санни подсвечивает фонариком:
- Здесь, в «Рамбутановом саду», семнадцать домиков, и каждый, вы увидите, часть моей новой жизни, в каждом одна из моих работ о «Боробудуре», а продолжение – вон там, в моей галерее. Сегодня уже поздно, завтра с утра мы поедем встречать рассвет и посетим Храм, а после обеда, если хотите, я покажу вам то, что не ждет своего заказчика.
Я открыл дверь и включил свет. На меня смотрела принцесса – голубая и серебристая, точно Снежная королева, которой пересадили живое любящее сердце.
- Доброй ночи и приятных снов! Не беспокойтесь, вас разбудят.
Но как тут заснешь?
Есть в Киеве вид, всем видам вид, самый что ни на есть в мире – появление Лавры с автомобильной эстакады, ведущей на Петровскую аллею. Из зелени, из райских кущей – в голубые небеса – стартуют купола Лаврских храмов и колоколен. Девять, восемь, семь, шесть… Отсчет пошел, но даже при самой малой скорости на эстакаде все равно до нуля досчитать не удается: задние напирают, приходится проезжать. Значит, что? Старт, слава богу, отменен? Есть надежда на новую встречу? Или все-таки улетели?.. Каждый раз волнуюсь, пока поднимаюсь по Петровской - из-за деревьев Лавры уже не видно, и только повернув налево, выезжая к Парку Славы – вижу: вон они, на месте, фу-ух, в этот раз обошлось…
Боробудур тоже готовится. Вот только к чему? Неясно… Ясно, что инопланетный, не наш, чужой… А что у них на уме? Лететь дальше или осесть здесь, в непролазных джунглях нашей цивилизации, где память о зле стократ живучее, где за случайный толчок норовят ответить увечьем, а то и убийством. Прошлый век оказался рекордным, и мне кажется, они уже приняли решение, наметили дату отлета, но какая-то мелочь помешала, не знаю какая – детская или старческая, может быть, кто-то пришел и попросил: «Не улетайте до пятницы!» Но не сказал – до какой. Схитрил, а они, глупые, пообещали…»
«Андреевской церкви полет…» - читаю у Риталия Заславского. Думаю, не только о красоте – об отлете писал поэт, о том, как зыбок завет, как легко и незаметно остаться нам оставленными… Пришел-прилетел апостол Андрей, увидел, кто живет в этакой красоте, вздохнул тяжко и поставил на нас крест: мол, прочь отсюда, прочь, не откладывая.
Расстояние от смотровой площадки до Храма почти как на мысе Канаверал. А я люблю смотреть на космические старты. Санни привез нас за полчаса до восхода и подсказал местечко на склоне, откуда хорошо видать. Пока было темно, пирамида Храма почти не отличалась от лесного фона, но с каждой минутой ярусы, ступы и шпили выделялись рельефнее, симметрия и гармония проявлялись полнее, а ярило за горой все ближе и ближе подбиралось к краю, к линии горизонта. И вдруг – о чудо! – Боробудур засветился! Мы еще солнца не видим, а туда его лучи проникли на какие-то секунды раньше. Как это могло быть? Однажды после дождливой ночи, в просвете серых обложных туч я увидел золотое маленькое облачко ,и это было понятно – оно много выше, утреннее солнце добралось туда раньше. А тут? В гуще джунглей на совсем невысоком холме… И осветился Храм не сзади, откуда явилось ярило – а спереди?! Включили подсветку? Прожектора? Ключ на старт? Зажигание! Поехали! И так уже тысячу лет?!
Туристы заклацали, защелкали, завздыхали. И птицы запели – дружно, видимо после многолетних репетиций.
Пока от смотровой ехали к Храму, он то исчезал, то вновь мелькал за деревьями – точно, как в Киеве, и не было никакой гарантии, что застанем. От экскурсии я сбежал, по галереям пошел сам, как обычно, по наитию. Все космогонии и священные писания похожи, и Боробудур был иллюстрирован картинками, как детская Библия, или комиксами, и украшен, как Коран, орнаментами вокруг легенд и историй. Рельефы отражали Веды и более всего напоминали застывшие кадры диафильмов на сером экране галерей, причем все они были даже не черно-белыми, а серыми, пленка выцвела.
- Вы тоже это заметили? – заулыбался Санни, когда мы вернулись в «Сад», в его галерею-мастерскую. – Да?! И я! А ведь они поначалу были яркие, цветные. Картинки в детской книжке. И мы по мельчайшим остаткам краски – знаем, какие! Вот первая моя задача – восстановить цвет. А вторая – донести суть и образы до Homo-XXI, перевести на современный, но только не взрослый язык. Это большая работа, не знаю, успею ли… Впрочем, - тут он голос понизил и, глянув по сторонам, прошептал: - мне кажется – они (! – восклицательный знак, точно прожектор, указывал на звезды, уходил в небо), они тоже хотят увидеть результат, и поэтому решили обождать с отлетом. А? Нет?
Но я не ответил – я был увлечен, охвачен Новым Боробудуром, я узнавал образы с рельефов, преображенные в 3D-иллюстрации для фэнтези, я влюблялся в снежных королев XXI яркого, многоцветного, никакого не последнего века.
- Санни, пожалуйста, оставьте меня одного. У меня слишком много вопросов.
16
У подножия и на западном склоне Агуна – огромный многоярусный Храмовый комплекс.
Сюда по большим праздникам собираются верующие со всего острова. Мы приехали ранним утром, на стоянках уже не оставалось места, а народ все прибывал – нарядный, возбужденный. Маде обеспечил меня соответствующим одеянием – иначе не пустят: и я, весь в белом, с посохом и наитием, пошел ко входу, вливаясь в поток. Вокруг все бурлило – шли семьи с отцами во главе, шли молодожены, за ручки, не отпуская, мамочки несли младенцев, сновали и бегали дети, на колясках катили инвалидов – и все мне улыбались, кивали. Цветы, зонтики, веера, корзинки с дарами… Во Владимирский на Троицу или «в Европу» на Майдан в то наивное предвоенное время… Я счастливый человек, думалось мне.
Храм поднимался террасами, и на каждой из них, кроме главных, располагались храмы поменьше, а перед ними выстраивались верующие для молитвы. Я присел неподалеку, наблюдая, как идет служба, именуемая здесь «серемони», принимаются просьбы, потчуют дарителей рисом и пр. и пр.
Белые одежды и смуглые руки и лица, смоляные кудри и седина, черные глаза и белые газовые платочки… И вдруг я увидел девочку – такую беленькую и голубоглазую, словно сбежала она с рождественских скандинавских открыток. Рядом с ней я не увидел похожих родителей, бабушка (или кто это рядом?) увлеклась молитвой, а девочка, тоненькая и грациозная, пританцовывала, демонстрируя балетное умение, «школу», и не только.
Вот и моя внучка такая же. Белая цапля, худющая, и чтобы все на нее смотрели.
«Серемони» шли своим чередом, постепенно подходя к концу. Все были счастливы – и прихожане, и служки. Наконец затрубили-заревели голоса-трубы, и народ, оставляя дары и деньги, стал понемногу расходиться. А девочка – пропала. Я искал ее в толпе, даже пошел ко входу, в надежде, что увижу ее… Увы. И я повернул обратно, поднимаясь по храмовым лестницам на вторую террасу комплекса, и добрался до храма, посвященного Драконам. До чего они были хороши, цветные, раскрашенные, пышущие огнем. И только я вошел в ворота – Агун задрожал, земля под ногами заходила и над вершиной – или я только сейчас заметил - зачернело небольшое облачко. Кто-то из служек озабоченно покачал головой, и продавец благовоний заспешил, собирая свой товар и что-то доказывая соседям. Но мне хотелось пойти выше, туда, где почти под самой вершиной горели купола маленького многофигурного храма, посвященного Кали. И я побежал вверх по тропе. Купола то светили, то исчезали. Перейдя через мостик, я увидел часть бегущей на вершину тропы, а на ней – да! Ту самую цаплю-блондинку и старуху в темно-вишневом сари. Девочка шла впереди, что-то вереща, смеясь и приплясывая, и я прибавил ходу. Но тропинка снова спряталась под густые кроны. Я пошел быстрее – и никого… Сойти с тропы они не могли – вокруг джунгли – а тропа хотя и петляла, но не раздваивалась. Я заторопился и, огибая горку, заросшую невысокими деревьями, оказавшимися дурианами, заметил одинокого ребенка, лет трех, с колючим плодом, который он протягивал мне. А моей девочки не было; странно, я не мог их не догнать. И тут же Агун задрожал сильнее, я оглянулся, ребенок все так же протягивал колючий плод. В воздухе запахло гарью. Не пора ли вниз? Но за поворотом открылся верхний храм, и я решил дойти. Приближаясь к куполам, сверху сползало черное облако, выходящее из жерла. У ворот храма в загородке под крышей паслись корова и телочка. К гари прибавились гул и дрожь, но животные вели себя спокойно и даже благостно. В храме не было ни души. Царила Кали, еще более отвратительная, чем наша. И вдруг зазвонили колокольчики. Откуда-то снизу? Или это ветер тронул развешенные здесь, наверху? Зазвонили и смолкли. Что-то было не так. Кали скалилась. Я же ощутил защиту и покой.
Вид на остров открывался точно из космоса. Всяческие шумы ушли, и снизу, от океана потянулись, густея, сумерки. Пора было возвращаться. Подобрав пару монеток, я помахал коровкам, и снова вышел на тропу.
17
Нет, я не хочу поймать наконец кого-то из Богов за руку и мучать Его вечными вопросами и просьбами.
А вот словить Его взгляд на повороте или улыбку, пусть даже адресованную не мне, или прикоснуться, или услышать Его голос в темноте, в соседней комнате… Или танцевать с Ним на маскараде, даже не зная, под какой маской Он скрывает лицо…
Не знаю, я бы, наверное, умер от эйфории.
А вы не пробовали танцевать под колокольный звон? Забыть о приличиях, о местных традициях, и радоваться, как дети? Попробуйте! Сначала – пусть робко, чуть приседая и поводя плечами, а вот уже резвее, с бедрами и притопом, и наконец - пуститься в пляс с визгами, свистами, проходкой, коленцами и канканом! Хоп-хоп-хоп-хоп! Ведь мы, в отличие от Богов, застывших, окаменевших на рельефах Боробудура и в храмах, мы – еще живы? Жги-жги-жги-жги!
Нет, ничего подобного я здесь не увидел. Балийцы танцуют, как кришнаиты, медитируя, без угара, отпада и сорванной крыши. И звон здесь без куража, звонари блюдут меру. Ежедневно, с раннего утра, с рисового поля, с домашнего храма.
18
Я понял, почему Они не улетают: у Них много работы. Понять, простить, убедить, улыбнуться на повороте.
19
Логично было бы закончить эссе описанием заката. Никогда!