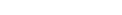16. Старик (первый вечер на острове)
Днем приходили малые дожди, видимые издалека. Облако, а под ним серая полоска вниз, ровная или косая. Прибежал, пролился – и дальше, на восток, или на запад. На юг. На север. И снова солнышко.
К вечеру на горизонте наметилась тьма. Вроде далеко, а вот уже ближе, ближе, разрастаясь, занимая уже четверть. Треть.
Что несла она с собой? Только ли дождь... А может – шторм, бурю? Ураган – такой обычный в центре Тихого? Или что иное...
Я пошел, поспешил от обрыва, ближе к домикам, и там под навесом на парковой скамеечке присел рядом со старичком. Сдобненьким, курносым. В лице его было что-то клоунское - от Олега, может быть, Попова или Куклачева, и одновременно – поповское, испытующее: глянул он пристально, но быстро...
Две кошечки – дымчато-черная и трехцветная – обе молоденькие, ластились к нему. Мягкий вулканический туф угрелся у него на коленях, а вторая пошла ко мне, мурлыкая и выгибая спинку.
Лук! (Посмотри!) – показал старик. – Радуги. Вон одна, а вон еще две. Рэйнбоу ин зэ найт – шепардс дилай. (Радуга под вечер – пастухи беспечны.) Вот и кэтц донт вори – все будет хорошо, хорошо...
Старик гладил кошечку. Пальцы его, короткие, пухлые, прятались в густой шерстке. Он попыхивал трубочкой и вновь – чубуком – указал на радуги.
Лоу сизан...(Межсезонье.) Вэ ар ю фром? – но, не дождавшись ответа, сообщил: – И я скоро отплыву. Или улечу... Туда, - указал на запад, – туда. Может, там и встречу Эстевана, и мистера Кон-тики...
Вы знали? Вы встречались с Хейердалом, с Туром Хе..? – не удержался я.
...и Клауса. – он будто не слышал, - И жёнку мою, Карусю... И с мамой, с мамочкой... Э-хе-хе...
Посасывая мундштук, глядел он, сощурясь. Порывы ветра усилились, а дождь все не шел. Под навесом, укрытым с трех сторон, было уютно. Кошечки сидели смирно, одна у него, другая у меня, и я не стал торопить, решил - не перебиваю. И он ждать не заставил.
Вот, - указал на небо, - звезд не вижу. И в Сантьяго не видел. Смог, понимаешь.
Старик раскурил трубочку, в глазах заиграл огонек.
- А в Ло Вальдесе – да-а! Луна, особенно когда полная, и вершины в снегу, и этот вид на Сан-Хосе – ночной, словно кондор крылья раскинул.
Старик поглаживал, мял кошечку. И глядел далеко, щурясь во тьму. А я уже не сводил ни глаз, ни ушей. Не замечая ни пиджин-инглиша, ничего. Все, о чем говорил, ложилось на душу так, словно рядом со мной – кто-то из них, из хранителей родовых пещер – Эстеван, или Томенике, или на худой конец – Герр Клаус?
- Да-а… Герр Клаус любил горы. Вечером, при полной луне сядет на террасе у «индейского камня» и следит за движением тени, сверяя часы с насечками на валуне.
Подойдет к обрыву - на север, на север глядит. Да... Сколько же прошло? Пятьдесят пять? Пятьдесят восемь лет...
Герр Клаус любил горы... 10-го... Да, 10-го. Они бросили вторую бомбу, на Нагасаки. Был звонок из клуба, в отеле не было никого, кроме нас. В гостиной, за большим столом он пил и пил, слезы текут по лицу, а он не замечал – плакал, и губы шепчут: « Майн гот...»
Я ушел спать, а утром нашел его под столом, разбитого параличом. Что делать? Звоню в Сантьяго, в клуб. А он шепчет: « Нихт... найн..., сожги, спрячь... беги...»
И четыре таблички - ронго-ронго - я сжег при нем, чтобы он видел, а когда собрался жечь пятую и тетрадь с переводом – он уже не дышал. И я бежал, не дожидаясь, пока приедут эти, из клуба...
Пошел дождь. Если бы не дождь, я ушел бы к себе. Я не верил ни единому слову. Речь старика казалась все менее связной. О чем он? Неизвестные таблички? Переводы ронго-ронго? Э-э... Пережал. Явно. И Ло Вальдес. И Клауса. Не подслушал ли он мою болтовню на рисепшине? Аферист...