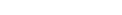4. Что такое путешизм
Приделать к лыжам паруса
И взмыть под небеса!
Вот это - жизнь! Вот это – да!
Вот это чудеса!
Сенкевич сказывал: - Мой свет!
Я видел во сто крат...
Я на плоту встречал рассвет
И под землёй – закат...
На дельтаплане меж холмов,
В акульей глубине...
Ну, что Дроздов? И что Крылов?
Нет конкурента мне!
Но телевизор выключал
Не маменькин сынок.
И детский велик свой качал он,
Глядя на восток...
Рюкзак набит.
Блокнот, фонарь,
Сухая колбаса.
От солнца шапочка, словарь...
Осталось полчаса...
Приходит мама в три часа...
Осталось полчаса...
Приделать к лыжам паруса
И взмыть под небеса!
Эти строки написаны давно. А пришли на память по пути на остров. Почему? В общем-то, понятно. По сути, мало что изменилось. Перед вами - путешист, отягощенный застарелой, приобретенной еще в раннем детстве хронической и неизлечимой туризмо-хейердалью. В аэропортах она обостряется, заставляя сторониться и одновременно тянуться к таким же, как я, странникам-хроникам, склонным валить на собеседника гигабайты восторгов и околонаучной ерунды, привязчивым и нудным, беспокойным и все же, - странным, то есть необычным, интересным, удивительным, с надеждой, что и я такой же.
Я слонялся по аэропорту. Тайнолюбие, приправленное тоской, горчило, вольный ветер доносил сладковатый привкус сожженного в турбинах керосина. Предчувствие того, о чем ничего не сказал этот чебурахнутый Эдик, гоняло меня от бутика к бутику, и не хотелось ничего: ни размышлений, ни стихов, ни заметок.