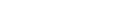Дом на Жилянской
Ранее всего была белая голландская печка и горчичники, и дедушка Яша, склоняющийся ко мне, больному:
“Люти-тюти, люти-тюти. Баран, баран, баран-буць!”
Хрустальная люстра с висюльками и сабелька - у меня, а головастики в банках - у соседского мальчика Алика Цаповецкого, и самолетик, точно настоящий, у него же, и слуховые трубы из кухни с первого этажа на второй, в которые можно шепотом говорить и подставлять ухо, и слышно (!) - опять же у Алика, и ещё он старше меня на год, и ему, Алику, разрешают ловить головастиков на Черепановой горке в озере и приносить домой, а мне — нет, зато у меня папа солдат, и дедушка главный, и кошка Пупка.
А дедушка очень главный, потому что когда мы идем с ним гулять на стадион Хрущева, и там играет духовой оркестр, сам Маркос отдает ему честь. Маркос — начальник оркестра. Капельмейстер!
Наш дом деревянный, двухэтажный, старого коричневого цвета на углу Жилянской и Горького со двором, сараями и воротами, под которыми я однажды нашел мамину серьгу и сразу стал “зорким мальчиком”!
Я очень гордился этим. А еще и тем, что я был вежливым и послушным мальчиком, как, может быть, из сказки “Волшебное слово”. Я со всеми здоровался первым и всем говорил “Спасибо!” без напоминания “А что надо сказать тебе?”
А баба Хая наговаривала на меня, будто я не здороваюсь.
Я здоровался! Я поздоровался, мама! Она просто не слышала.
Я тогда понял, что взрослые не обязательно могут быть хорошими, а мы, дети, я — должны быть хорошими.
Потому что послушный, хороший мальчик — это хорошо, а непослушный — это плохой мальчик, это плохо...