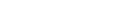Свет мира
(1-й годовщине выхода в свет книги стихов Инны Лесовой «На асфальтовом берегу» посвящается)
Мир, проникнутый светом, теряет свою тяжесть.
И. Лесовая
Живу и недоумеваю: все время хочу понять...
А. Эйнштейн
1
Мне говорят: гипотезы сомнительны. Говорят: этот жанр - не ваш, стиль рецензии должен быть иной, ваша восторженность мешает.
Но что я могу поделать... Предлагаемый текст - не рецензия, и не отзыв, а любовное письмо. Я влюблен. Восхищение прозой росло во мне. И вот - стихи. Стихи! Как не влюбиться?!
2
Эти стихотворения я читал и перечитывал - сначала в рукописи, а затем и в книге. Слышал, и не раз, в том числе и в авторском исполнении. И вот сейчас они снова пришли ко мне, и я убедился: настоящие в?на со временем стали еще драгоценнее, их черед настал и продолжается, наслаждение сменяется интересом и снова - наслаждением, но уже на другом, нет - на ином уровне...
Драгоценность же их в том, что они марочные, выдержанные, с богатой историей, классическим ароматом и букетом, иные - коллекционные и одновременно - такова особенность этого рода «вин» - живые, они продолжают играть, к ним вполне подходит определение «молодые», шипучие. Они прямо-таки наполнены пузырьками авторского восхищения, они искрятся, радужно торжествуют, являют абсолютный восторг, непрерывное счастье.
Вот и название книги - «На асфальтовом берегу» - подчеркивает (любопытная опечатка - подчеркиевает), что автор - житель городской, и темы, образы его - асфальто-полисные, и в то же время – прибрежность: приречность, приозерность, приокеанность, привселенность – нахождение на грани, у, перед...
С этим же чувством - восторга ожидания - я принял и раскрыл книгу; и это состояние не покидало меня, пока я шел от стихотворения к стихотворению, и оно живет во мне и посейчас.
3
Нет, нет, не так... Я помню настороженность первой встречи. Маленькая книжечка в мягкой обложке. Ничего цветного. Бледное сероватое фото: девочка с бантом на фоне балконов и стены, заслоняющей небо. И еще - под названием - что это за чудик из проволоки? Руки его простерты - то ли к нам, читателям, то ли к небу. Каркас еще только начинаемой куклы? (Инна ведь - мастер-кукольник.)
Я понял, что это влюбленность, когда медлил, не решаясь раскрыть. Так же было и с рукописью. А вдруг сюда, в книжку, включены совсем не те стихи, что я читал раньше?
Бывает, что талантливый архитектор тешит себя мемуарами об охоте, а гениальный физик неплохо, на хорошем семейном уровне музицирует, и даже концертирует. А что если стихотворения мастера прозы Инны Лесовой - такой же каприз или хобби?
Наконец мне было известно, что при создании масштабных, многофигурных полотен-эпопей производственный подход превалирует. «Стихи прозаика» всегда казались мне идущими от ума, нежели от чувства и интуиции, казались сделанными, спроектированными, лишенными неожиданностей и чудесных открытий. А ведь поэзия, как и любовь - всегда езда в незнаемое: с первого взгляда, с первого слова...
4
Первые слова - при первом знакомстве. Влюбленные помнят их всю жизнь, хранят, как драгоценность, берегут, вспоминают с особым чувством, в особые минуты - потому что они первые, на перекрестке судеб, когда все могло быть иначе.
Помню, как я обрадовался, когда в аннотации прочитал: «Стихи Инны Лесовой приходят к читателю позже ее прозы... Но это не «стихи прозаика» (как бывает «проза поэта»), а книга лирических отступлений к ненаписанному роману о собственной судьбе».
И рядом с аннотацией - первое стихотворение – незнакомое, по-видимому автопортрет. (Заметьте, Лесовая-художник могла бы предложить автопортрет живописный, однако с третьей страницы она уступает это право Инне-поэту). Итак:
...Девочка лет шестнадцати
с грязным этюдником через плечо...
Она хромала. Что еще...
Вечное «Ах!»
в широко раскрытых глазах...
....
Она
была хронически влюблена...
....
Куда она делась потом?
- Не знаю.
Автопортрет - всего семнадцать строк. Но все же: «Куда она делась потом?..» А вот куда: поэзия родилась и живет своей жизнью уже с третьей страницы. Живет точно так же, как и родительница - восторженно и влюбленно - с тем чудесным неведением девочки-подростка, у которой вся жизнь, весь мир - впереди!
5
Стихотворения Инны - не каприз и не побочный продукт гения. Не прорыв на волю из производственного цеха эпопей. И даже не равноправный жанр ее литературного поприща. Стихи вполне могут быть ключом к ее творчеству в целом, исходным пунктом, в сжатом виде содержащем все многообразие ее талантов. И в живописи, и в музыкальных предпочтениях, в изготовлении тортов и пирожных, выступлениях на радио, в шитье и создании кукол, не говоря уже о сочинительстве - поэтическое присутствует как сущностное, глубинное или, скорее, вознесенное.
Эта гипотеза вытекала из характеристики ее стихов как лирических отступлений к ненаписанному роману о собственной судьбе. Стихи о себе, как составная часть автобиографии, не могут быть второстепенными по своей сути. Они объективно значимы, духовно важны, служат для того, чтобы в обычной жизни найти возвышенное, отметить поворотные моменты в судьбе, обозначить основные жизненные и творческие принципы, главные темы. Роман о собственной судьбе, хотя и формально не был написан, но растворился в судьбе поколения, в той провинциальной саге, которую и составляют ее произведения в прозе и живописи, и которые, в свою очередь - я теперь в этом уверен, - вырастают из стихотворений.
Проволочно-поэтический каркас. Восхищенный прообраз прозы. Душа еще не родившейся куклы на обложке.
Но как убедиться? Как доказать?
Если бы можно было в самом деле так сжать ее романы и повести, чтобы осталось фундаментальное. Обратить вспять расширяющуюся вселенную ее таланта, предполагая, что повесть, сжатая в стихотворение, а роман - в поэму - дадут искомый ответ...
И что значит - сжать? Можно свести к минимуму число сюжетных линий, количество героев, сузить временные и пространственные границы. Тогда останется один автор, он же герой, один на один с миром - и вот перед нами книга лирико-биографическая?
Как выжать из прозы квинтэссенцию поэзии... Таблицу Менделеева свести к исходным водороду и гелию? Повернуть вспять эволюцию видов - и дойти до протоклетки? От Леонардо - к наскальным рисункам? Генезис звезд...
Что поделать, все влюбленные - фантазеры. Вот и меня увлекли разнообразные био-, хим-, астрофиз- и прочие аналогии. Примеривал и так и эдак, пробовал поверить гармонию, как видите, не только алгеброй. Понять, откуда моя влюбленность, и почему именно к этим стихам.
На этом пути возникли неожиданные сравнения, новые образы, сюжетные повороты - влюбленность всегда продуктивна. И наконец наградой за все эксперименты и выкрутасы пришло простое и очевидное решение.
Названия!
У физиков - разработчиков теории Большого взрыва - есть любимое число: 10 в -43 степени. Момент, когда времени еще не существовало, но волновая материя уже была, замысел был. Как странно звучит – «времени еще...» И верно - в начале - не многоголосье, не слова, а слово, ключевое.
Сжатые до образа, названия повестей и романов могут (в случае, если они выбраны удачно) отразить суть, раскрыть сверхзадачу. Если здесь обнаружится тенденция и совпадение с важнейшими тропами, вокруг которых вращается ее поэтическая муза, - тайна ее радужного таланта будет раскрыта.
Так мне казалось.
6
Названия... Я выписал их в столбик, рассматривал и недоумевал.
20 процентов - это имена («Сёма Рабинзон и его красавицы», «Манечка и Фридочка», «Верочка», «Золото Хаим-Шаи» и др.), отражающие национальный колорит, впрочем, скорее провинциальный. Стихи тоже наполнены именами, и выбраны они тщательно, как приметы времени и места, выбраны так, чтобы наполнить особым личностным отношением, вниманием к ближнему. Но что из этого?
Среди остальных названий были и такие, что тоже в чем-то повторяли стихи. Промелькнуло упоминание о сестре. «Яблоки в траве» и «Вверх по Фроловскому спуску» - обозначили место действия: пригород, дачное местечко. А время?.. Косые кресты двадцатого века - ХХ - страХ сталинщины? Холокост? исХод? Может быть, «Следствие» и «Счастливый день в Италии»? И в стихах то же. «Девятнадцатый век кружевной», пересекающийся так крестообразно с ХХ, и стихи о 1953-м.
Мне показалось, что «Место на фотографии» и «Набросок мягким грифелем» - хорошая подсказка о том, как следует иллюстрировать провинциальную сагу, а «Бессарабский романс» - что исполнять на презентациях.
Собственно, здесь не было ничего удивительного - ведь стихи и проза - одного автора. Но это никак не подтверждало гипотезу об изначальности ее поэзии.
Мне ничего не говорили ни «Вторая любовь», ни «Пасьянс «Четыре дамы», ни «Либретто». Что-то мелькнуло в «Я люблю, конечно, всех» и в «Золоте Хаим-Шаи»... Но если бы не этот фантастический закат на лугу, я, наверное, так бы ничего и не уловил. (Я обязательно вам расскажу, это важно, но сейчас, не теряя связи, должен сообщить о том, что вдруг открылось.)«Манечка и Фридочка», «Верочка», «Девочка с таксой»... Эти названия не просто вписывались в нежный тон, в ласкательное и уменьшительное ее семейной хроники. Девочка! Ласковая фонема, маленькая фемина. Та самая, с фотографии на обложке книги стихов. Она появилась, как продолжение ряда: «Я люблю, конечно, всех», «Золушка и ее сестра», «Дама сдавала в багаж». Названия пришли из считалок, сказок и стихов для детей; вот что было в начале. И нечего гадать, это вам не «Пасьянс «Четыре дамы»...
Проза и поэзия Инны - передо мною на столе: три толстые книги повестей и романов, лежащие стопкой, и рядышком - книжечка стихов. Сестры. Старшая и младшая. Подумал, так ли уж важно, где первая, а где «Вторая любовь».
«Либретто», так называется рассказ Инны, в переводе с итальянского - книжечка.
Я снова раскрываю стихи.
7
К стихам можно относиться по-разному. Не понимать, не принимать, не чувствовать, не слышать, не верить, не помнить. Стихи могут не нравиться, не трогать, не впечатлять, не звать за собой. К некоторым можно прибавить эпитет неточные, невнятные и просто неказистые. Но есть незабываемые, с иными невозможно расстаться. Наконец стихами (немногими, разумеется) можно восхищаться, вплоть до поклонения. Не часто, но бывает, что они становятся частью тебя самого, наполняют тебя новым неведомым светом.
На луг я хожу с собакой. И каждый раз, перейдя по мостику первый мелиоративный канал - а всего их три, стою и восхищаюсь - ширью, просторами. Когда-то здесь была река, и туда, за высокий правый берег, уходило солнце. И сейчас, на закате, отпустив с поводка все мои заботы, слежу я, куда же доберется Оно, докатится: за деревья, растворяясь в листве, просвечивая, сквозя; или же опустится на лужайку на вершине холма, на гладкое место, чтобы совершить погружение не торопясь, поэтапно. В эти минуты луг поет, птицы и травы соревнуются, и все - и редкие облачка, и лягушки в канале, и дачники, копошащиеся на участках, - затихнут, засмотрятся, провожая ярило. Солнце зайдет, а жаворонок потянется выше, все выше, пытаясь не пустить, удержать, и завьется, зальется, затрепещет. И луг, будто весь мир, и я вместе с ним, глядеть будем неотрывно, следя за гордым комочком, и качать головой, и улыбаться: вот же какой боевой!
А вчера со мной приключилось вот что.
Вдруг ослепило два солнца. Одно - слева - над холмами, опускается. А второе - справа - в окне дачном сияет. И так удивительно второе сияет, будто размышляет. То есть и первый свет - закатный - совсем уже не такой, как дневной. На дневное солнце смотреть невозможно, а вечернее - ослабленное - как бы обращенное к человечьей малости – человечное, - позволяющее смотреть на него, взаимно, друг на друга, как смотрят по-дружески, нет, - любовно, влюбленно... И все-таки, этот закатный свет еще силен, он летит над лугом огромной жар-птицей, пронизывая все, в нем более от гимна, и хочется петь в хоре, как весь луг, как весь мир.
Иное дело свет отраженный... Его слабость очевидна. Он уже не валит потоком, а подходит зримыми волнами, и колышет вместе с ветерком травы, и слушает восхищенные беседы птиц и лягушек в канале, ведет разговор, размышляет. В нем - в отраженном свете - более человека, нежели солнца. И это не гимн хором со сцены Кремлевского дворца съездов, а дуэт хозяйки и огорода, когда внуки и родители дали покой, и руки еще в земле, но на сегодня - все, присела передохнуть на закате...
Именно в нем, в свете, проникнутом дачным, семейным, провинциальным, в нем растет и сохраняется и возникает снова - главное: движение навстречу, попытка удержать солнышко еще хоть на миг, на минутку... Выше, выше...
Влюбленным всегда так тяжело расставаться...
8
«Восторг - чрезмерная радость, удовольствие». В словаре Владимира Даля находим несколько определений, но это - первое, понятное, дольнее.
«Мне вдруг, - слышал я как-то от Инны, - ... или не вдруг, а вот появляется желание сохранить те памятные картины и минуты, того человека, то место и состояние - сохранить так, чтобы самой возвращаться сюда и показывать, рассказывать. Хочется оживить навсегда. Потому что...» - тут Инна умолкает, будто прислушивается, озарясь теплым ласковым абажурным светом - и я понимаю: нужна не проза... Нужна поэзия, или что-то большее?
И, на лице своем обнаружив
всё ту же
улыбку статуи древней,
каждой клеткой своей
в это тепло вникая,
переполняясь до края,
обмирая и плавясь от ласки, -
весь этот мир,
все его шорохи, запахи, краски,
весь этот день,
со всеми его мелочами -
вдруг принимаешь в объятья
своей блаженной печали...
И не желаешь знать ничего
ни о конце его,
ни о начале,
будто прошлого больше нет у тебя за плечами.
- Нигде мне не было лучше! - доверительно сообщает автор, и слова эти выходят за рамки места и времени - обретают всеобщий - вселенский и вневременной масштаб. Эта формула «Нигде…» сводит в точку и, отрицая, вбирает все, обращаясь ко всем и к Нему.
Я понял, зачем Инна Лесовая пишет стихи. Чтобы спасти Его, нашего местного (не знаю, с какой писать буквы, прописной или маленькой?) небожителя - нашего Создателя. Стихотворения - это рецензия - или точнее отзыв, или... Я уже вижу - как Его вызывают в небесную Прокуратуру, его привлекают по делу сотворения нашего космоса. Допросы, допросы... И вот уже речь обвинителя на вселенском процессе о том, как много недостатков, недоделок, просто брака, с одной стороны, и нецелевого использования ресурсов, с другой. Находится, конечно, немало «доброжелателей», и витий, и мелькающих в толпе, и «уважаемых экспертов». Верховный Судия уже посерьезнел, уже хмурит брови. Короче, тучи сгущаются. И тут наш Создатель, наш боженька-ответчик достает эту книжечку - Иннину книгу стихов - и читает, выхватывая отдельные строчки, перелистывает, читает, читает:
Нигде мне не было лучше!..
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
И все кивают ей согласно.
Тем более, что жизнь прекрасна...
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Я от счастья уставала...
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Душа от любви уставала...
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Непрерывно счастлива!..
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
В тот день Москва была такая!
Такой во всем дрожал восторг...
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Будто все в тот день хотело
приласкать меня!..
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Радость стопы,
принимающей токи весны
сквозь подошвы...
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Жизнь - концерт.
И за жизнью - концерт...
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
- Да, да! Вы правы! - воскликнет Он, прервав чтение. Я ошибался, я потратил немало, но вот результат, вы слышите, слышите?!
И когда обвинитель закричит в ответ:
- Ваша честь! Это же не более чем восторженные эмоции, где доказательства, где факты? -
Тогда - всё! Он попался - они все попались! Потому что тогда на месте Нашего я принялся бы читать ее стихотворения целиком, одно за другим, и никто бы не прерывал, просто не смог бы прервать. И уже ничего не пришлось бы доказывать.
Итак, поэзия удивления, возведенная самой жизнью поэта в превосходную степень? Поэзия восхищения? Нет, мало. Поэзия восторга?!
9
- Позвольте! - возмутится литературовед. - Ваше определение выражает общее, характерное для всей лирической поэзии, но никак не особенное. Этого мало. Читателю не нужны очевидные выводы. Своеобычие мировоззрения, уникальность словаря, индивидуальность авторской интонации и звукописи, новизна образов - вот что предопределяет уровень эстетического наслаждения и лежит в основе подлинного интереса к поэзии. Восторг же, восхищение, удивление - это не лепнина, и даже не силуэт поэтического здания - а подземная часть фундамента, и не более того.
Как тут не согласиться?
А ведь не буду. Восторг-то восторгу рознь. У нашего как минимум три отличия.
Отличие первое.
Живописец Лесовая изображает мир, родственный ей, друзьям, поколениям советских людей, народу Книги, культурной части Человечества, вселенской гуманоидной Провинции, небесному (ангельскому) племени... - и не только. Причем изображает мастерски, вызывая общий восторг. Но этого мало.
Отличие второе.
Инна помещает на полотне себя, ту самую девочку (см. Автопортрет в начале книги стихов), и, не скрывая чувств, радуется и негодует, печалится и благоговеет, просит прощения и объясняется в любви... И так она - эта девочка - прекрасна, что у читателя разбегаются глаза - мир и автор равнопритягательны. Но и этого мало.
Отличие третье.
Любование, положительная обратная связь, приводит к возбуждению, которое нарастает лавинообразно, оргастически. И наш, читательский перевод взгляда с мира на девочку и обратно, повышает общий уровень восхищения, девочка подчеркивает, подсказывает, дополняет красоту мира, освящает собой мировую гармонию, мы рукоплещем, а мир, проникнутый этим взаимно трижды, многократно отраженным светом... что с ним происходит, не знаю, но Эйнштейн бы меня понял и подсказал.
И только одна мысль: довольно ли этого Инне?
10
Нет, нет, не довольно! Вы думаете, та девочка - автор? Ошибаетесь. Это - образ Читателя, образцового, вожделенного. Юного душой, рано испытавшего боль и страдания, но - внимательного и восхищенного; того читателя, что был когда-то, а сейчас, сейчас таких уже почти нет, а скоро (помните? не помните?) - скоро совсем не будет...
С таким Читателем или, если присмотреться к портрету, Читательницей хочется говорить о творчестве, она затем и гуляет по страницам книжечки, чтобы вместе со мной разобраться, понять, передать другим весть о Поэте. Или просто - читать и перечитывать. Просто читать вслух, сидя рядышком. Без каких-либо обсуждений и доказательств.
Впрочем, можно и доказать. Нужно доказывать, не ограничиваясь разговорами в перерывах презентаций, обсуждениями на литературных студиях, аннотациями и журнальными статьями.
Убежден, исследователи поэтического мастерства обнаружили бы немало тайн, а возможно и открыли бы новые законы гармонии, если бы серьезно взялись за филологический и лингвистический анализ Инниных стихотворений.
На международный симпозиум, посвященный ее творчеству, я пригласил бы не только редакторов и собратьев по перу, а прежде всего, «просто внимательных читателей». Потому что Инна - потом уже «поэт для поэтов», а сначала – «поэт для людей», и даже не обязательно «искушенных и подготовленных». Лесовая - поэт народный, потому что ее поэзия, при всей многозначности и недоговоренности, - обладает простотой высокой и ясностью горней.
Ах, если бы на этот симпозиум можно было пригласить ангелов или иных небожителей, постигших тайны поэтического вдохновения! Страдающих, как выясняется, не меньшей восторженностью, чем я, а значит и фрагментарностью, непоследовательностью и дилетантизмом - качествами совершенно необходимыми для познания мира Поэта, избравшего восторг в качестве предмета и метода своего творчества.
Усадить бы рядышком земных читателей и небесные создания и говорить, говорить...
11
Из стенограммы Вселенского симпозиума, посвященного книге стихотворений «На асфальтовом берегу».
Первый выступающий. Все дело в ритме. В таком свободном поэтическом дыхании. Весь ее секрет в музыке. В том, как сестра играла:
А сестра играла
будто капли с пальцев роняла,
будто в парке осиротелом
каждый лист упавший оплакать хотела,
будто руками туман разводила,
будто легким касаньем дитя будила,
будто после разлуки в окно стучалась.
И все у нее выходило,
все получалось.
Волшебство малых и больших вдохов и выдохов, вздохов и всхлипов (в одышке, во всхлипе при вздохе?), в естественно неравной протяженности строк, в неровном дыхании, обозначенном расположением строк и согласованием с рифмой, в подъемах и спусках, характерных для Киева...
Второй. Именно! Извините, что перебиваю, но я как турист, посетивший не одну поэтическую планету, смею утверждать: маршрут каждого из ее больших стихотворений непременно включает вершины, несколько вершин, на которые предстоит взойти, вершин, часто соединяющих эмоциональный пик с поэтическим открытием, с новым образом и красотами мысли, и - в силу такого соединения - обозреваемых с панорамным восторгом. Причем - важно подчеркнуть - вершины эти не наползают друг на друга, не сбивают дыхания, не измучивают читателя какофонией образов, невнятицей полунамеков, чрезмерной эрудицией и интеллектуальным мусором. Спуски - пологи и вольготны, привалы продуманны и только на первый взгляд кажутся необязательными. Скорость чтения совпадает со скоростью восприятия. Гармония выше экспрессии, что тут говорить... Вот послушайте...
И он начинает читать: «Потеплело. Сладкий день осенний...»
...и ты идешь, идешь легким повествовательным шагом, незаметно восходишь, и вот открывается строка:
Лист листа коснулся на лету
(тут желательно замереть, повторяя ее про себя - благо для этого в тексте стихотворения предусмотрена пауза) - и кажется, понимаешь:
Отчего на эту красоту
откликаешься бездонным вздохом...
Третий. Вы заговорили о вершинах, о макро-, а я хочу обратиться к ее микромиру, к букве, к сочетанию звуков и шорохов.
Вы, пожалуйста, внимательнее прочитайте «Когда в скверах октябрьских...» .Открыли? Да? В скверах октябрьских картины бабьего лета: теплота и грусть излучаются - вы ни за что не пропустите, - да, именно, теплота и грусть излучаются, скажем, отсюда:
откуда-то веет
то пирогом пригорелым,
то супом капустным.
Вот пирог. И тепло пироговое. Именно та пахучая теплота забывчивости, отрешенности: «Ах, пригорело у нас!» - праздник чуть-чуть омрачен, лето все-таки бабье. И тут же удвоенное «у» - супом капустным - сущностно-грустное (пусть, пусть, в путь, пусто, Пруст? проще, прозрачно, провинциально, призрачно, пригородом, пирогом пригорелым, праздником... - зашептал бы формалист или графоман). А мы просто заметим: вернулись... мы вернулись ...то пирогом пригорелым, то супом капустным... из тепла - в грусть, из праздника - в быт, и вновь - в осеннее тепло.
Эйнштейн повел бы речь о взаимопревращении элементарных частиц ее поэзии (в данном случае - через общее «п» - пирогом пригорелым... супом капустным), но надо ли так неклассически объяснять очевидное чудо?
Четвертый. А чувство времени, осязание, осознание времени. Скорость показа - то ускоренная, то замедленная - выбирается сообразно задачам. И вот оно - непрерывное - обращается в корпускулы:
Там сочилось время как смола
по стволам
и капало в ладони…
А вот уже и неровно, неритмично:
В чужом городе вечер густеет
толчками…
Лесовая знает о нем - о Времени, - кажется, больше, чем мы, и предупреждает нас: его нельзя оставлять без внимания. Иначе - перебои, шумы, аритмия...
Что будет со временем, если его не учить ритму, если забыть о поэзиимузыкеживописи? Что будет, если его не лечить Шопеном? Закатом, отраженным в дачном окошке? Переливчатым застольем - и девочкой, - она тоже здесь, рядом с мамой и папой; девочкой, любящей, конечно, всех?
Что? Вот что:
а вместо двора
дыра,
серый квадрат пустоты.
Только пестреют щиты
реклам
на черной стене,
и делать
там
больше нечего мне.
Пятый. «Живу и недоумеваю: все время хочу понять...» Что ж, прав, конечно, Эйнштейн, время - вещь самая, может быть, непонятная. Неподвластная человеку. В отличие от пространства - серого квадрата пустоты - непокоренная.
Время - есть вода? (по Бродскому)
Время - есть культура? (по Лесовой)
Вот что я прочел у Инны. Вслушайтесь:
Мир несносен. Осен. Осен. Осен.
Несовершенство мира со временем обращается в мирное несовершенство. Тоска творящего приходит к тишине равновесия. Покоряясь времени, приобщаясь культуре - человек смертный способен при жизни обрести гармонию. И только поэту этого мало.
- Что же нам делать? - спрашивает Инна, и сама же отвечает:
Мир прекрасен. Асен. Асен. Асен.
Нужно напоминать об этом, повторяя, поддерживая звучание, добавляя ритмичные, как в часовом механизме, яркие восторженные импульсы, чтобы оно - Время - не затихло, не остановилось, не повисло как маятник, как меч...
12
Но тут появляется Высоцкий. «В восторженность не верю...» - заявляет он. (А ведь так и договорится до неверия в бог знает Кого...) И голос его не одинок. Нас упрекают. Но меня, читателя, как можно упрекать в излишней восторженности?! Да, в аннотации Петровского (см. выше) нет слов для оценки. Предложенная им формула построена по схоластическому образцу отрицания, применявшемуся для определения Бога – «не то, и не это» - (не «стихи прозаика»... отступления... ненаписанному роману), - построена, может быть, для того, чтобы подготовить читателя к Уровню стихов, горнему происхождению. Именно по этой причине и мне - по праву влюбленного - менее всего хотелось анализировать и отвечать на упреки, а только наслаждаться...
Но - «не верю...» Из уст поэта всенародного, любимого мною. Поэта лирического - «здесь лапы у елей дрожат на весу» - и все-таки «не верю...»
Я догадываюсь, что, приговаривая восторженность, он видел себя эталонным Жегловым, крутым пацаном с Каретного. Что тут странного? Здесь - пацан. А тут - девочка. И все-таки я каждый раз недоумеваю, мне становится жаль его (или, вернее, придуманного им героя), жаль потому, что именно восторг и душевная к тому склонность - есть условие творческого диалога.
По определению Даля: «Восторг - благое исступление, забытие самого себя, временное отрешение духа от мира и сует его». И у него же находим: «Восторг - воспарение духа, временное преобладание его, восходящее иногда до ясновидения». Наверное, говоря о поэте, следует добавить - «...и яснослышания».
Павел Флоренский пишет не о состоянии, а о процессе. О моменте перехода границы сфер, когда «душа восторгается (выделено мною. - С. Ч.) из дольнего мира в мир горний, осязает вечные ноумены вещей и, обремененная ведением, нисходит в дольнее...», где духовное стяжание облекается в символические образы, закрепляется в слове.
Замечательный образ! Вот только «осязание» применительно к душе звучит по меньшей мере странно.
Читая Лесовую, догадываешься: восторг - не только рабочее состояние автора, не только метод настройки себя-инструмента, но и предмет творчества, его ведущая тема. Именно поэтому процесс превращения символических образов в слова, - по Флоренскому процесс «оплотнения сновидений», - протекает у Инны естественно, трепетно, «так искренне, так нежно» - с той памятной толикой грусти, что непременно присутствует и при рождении, и при расставании поэта с его подросшей деточкой-стихотворением. «Что ж непонятная грусть...» и «Как дай вам бог любимой быть другим...» - вот возможные координаты этого чувства.
Что так больно ноет за грудиной?
Что это за странный гул глубинный?
Что за клёкот в горле голубиный?
Может быть, стихи? Стихи без слов?
Пылкое, ликующее пенье,
буйное сплошное вдохновенье.
Не стихи - душа, душа стихов.
Читая Инну, догадываешься, что восторг - это особый горний язык. С помощью которого (метод) и над которым (предмет) трудится поэт. Впрочем, труд этот сродни воспитанию и научению детей, спасению и пестованию.
Ду-ду! Ду-ду! Куда я их веду
Сквозь эту убывающую снежность,
Сквозь эту нарастающую нежность?
Не отвечая пока на вопрос (об этом ниже), заметим, что «нарастающая нежность» и есть определение восторга по Лесовой.
13
Помните ее стихи на третьей странице? Поначалу мне казалось, что та девочка, проживающая в ее поэзии, - сам автор, Инна. А потом почему-то решил, что это - Читательница, та, наилучшая, с большой буквы, о которой всегда мечтаешь. Теперь же мне ясно - я ошибался. Портрет на самом деле не является автопортретом. Помните, зародыш куколки на обложке, проволочный каркас балеринки с вознесенными к небу ручками? Другое имя, иное призвание - точнее сказать - призвание, ставшее именем. Муза. И хотя из прозы просится и отчество - какое, скажите, может быть отчество у призрачной девочки? Музочка, Музка, Музинька... Ласково, ближе, нежнейше...
и дух весенней простоты,
и дух весенней пустоты.
Он будто отворяет дали...
Кто, скажите, кроме нее, существа иного мира, способен «отворить дали» и, «осязая вечные ноумены вещей», беседовать об этом с Инной? Беседовать на языке восторга, поправляя друг друга, когда хромает произношение?
Видите – никаких противоречий с портретом на третьей странице, на третьей планете.
Вне такого состояния (иначе говоря - вне такого языка) - вдохновенного - трудно представить истинное творчество, встречу, диалог с музой. Но и следующий затем диалог поэта и читателя таков же: поделиться радостью открытия, новым словом, живым и неожиданным образом - и услышать первый, эмоциональный пока еще, ответ - вот обратная волна. Поэт не только переводчик информации с горнего на словесный, поэт - хранитель горнего в слове. Так возникает поэзия - общий язык небесной Музы, Поэта и Читателя - язык нисходящих и восходящих волн. Духовных пульсаций, удерживающих мир от энтропии.
Впрочем, недоверие к чувству восторга вполне объяснимо. Речь идет, по-видимому, не столько об изменчивой народной любви - «сегодня - Ах! А завтра - в пах!» - сколько о сдержанном, мужском восприятии мира. Высоцкий - весь там - в миру, в гуще, в борьбе, - внутри этого копошащегося шара, где главное слово - преодоление. Лесовая же, кажется, вне, снаружи, за пределами круга. Если Высоцкому - о чем бы он ни писал - «хотелось под танки», или написать в «Спортлото», или «уехать в Магадан» - короче, действовать, действовать - и тут не до восторженных излияний, удержаться бы, устоять на краю, - у Лесовой - иное: на первый взгляд - высокое созерцание, стремление остановить мгновение. Высоцкий - певец сражающийся, актер трагический. Лесовая - девочка с этюдником, на пленэре. И не она, а сестра воюет с миром музыкой Шопена. И не к ней, а к маме приходит соседка в пятьдесят третьем, предрекая новые беды. И не о ней - о другой девочке вздыхают санитарки... Но вот что замечательно: если бы можно было измерить пафос борьбы, интенсивность колебаний его нерва и сопоставить с эмоциональной шкалой ее стихотворений, с восторгом запечатленного в душе поэта и читателя... Не знаю... Может быть, и правильно, что такая шкала отсутствует.
Нет, ее взгляд не снаружи, а сверху.
Свыше... Я уже почти написал: «С общей поэтической Голгофы, где у каждого поэта - свой крест». Написал и представил его – Высоцкого, услышал голос, хрипящий от натуги, увидел его здесь, на кресте. А вот Поэта, в миру именуемого Инной Лесовой, несмотря на все ее беды и страдания, здесь нет, уже нет. Уже - невесомость, уже - вознесение.
Оранта. София-Мудрость. С чудесным взором - поверх и вдаль. А когда подойдешь ближе, к иконостасу - глубоко в душу.
И свет, золотой свет смальты - волнами - словно... дачное окно на закате...
14
Итак, не только Муза парит, что вполне естественно, но и Поэт возносится и, вы же видите, следом за собой увлекает Читателя! Восторг, стало быть, - это нечто подобное невесомому эфиру.
«Оджас рождает Раджас! - пояснили бы индийские йоги. - Золотое сияние солнца порождает творческую энергию».
«Мир, проникнутый светом, теряет свою тяжесть», - просто констатирует Лесовая.
Нам же с Эйнштейном этого мало. Мы влюблены. Он - в красоту мира, я - в поэзию (что - то же самое), и мы хотим понять наконец, откуда берется энергия, способная побороть фундаментальные законы мироздания? Где та разность потенциалов, порождающая ток такой силы?
С Высоцким вроде бы понятно - в борьбе, в преодолении, в битве на краю.
А здесь, в галактике Лесовой?
Очевидно, одного восторга мало, каким бы положительным зарядом он ни обладал. Может быть, ответ - в судьбе Инны? В троичном стихотворении (триптихе - трельяже) на третьей странице? Помните? Хромала - хронически влюблена... Но следует признать, что и судьба человека - сколь бы трагична она ни была - не дает ответа по существу: как много вокруг страдания и как мало поэтов такого накала.
Ответ - в ее творчестве. Не в преодолении изломов судьбы (эти фонемы - хр-хр не выходят из головы), не в трагедии - а именно в трельяже. Зеркало треснуло, но не разлетелось на осколки, а - вот чудеса! - составило трельяж, обратилось в триалог Музы - Поэта - Читателя.
Именно в поэзии становится очевидным, до чего гармонично особенности творчества Инны Лесовой в содержательном плане соединяются с формой. Восторг, как волновая материя, как ритм, музыка или горний язык, модулируется провинциальным, усиливается, то есть ослабляется человеческим, оживает, свет мира - поначалу смертельно-лазерный - теплеет, умягчается.
Тайна ее многочисленных талантов - в стихах. В рифме: участливо - счастлива. В сострадании, которым наполнен мир Лесовой, нет - переполнен - столь же естественно, как и чудесно. В том сочувственном беспокойстве, совестливых фугах, нравственных повторах и постоянных поисках ответов, которые как раз и объясняют, почему фотоны ее восторженного света-языка не имеют массы покоя.
Сравнение Лесовой и Высоцкого пришло потому, что они - прежде всего - Поэты. Поэзия - причина того, что борьба уступает благоговению и восторгу. «Мне руку поднял рефери, которой я не бил».
15
Я верю в поэтическую восторженность Инны Лесовой. Верю еще и потому, что открытость, искренность ее предельна, на границе сфер, с полным пониманием, что ничего на самом деле скрыть нельзя, и - не нужно.
Помните, у Высоцкого, «когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо»? И жесткое, резкое «Я не люблю!» И двукратное - «мои - мне» - двойная защита его самости, защита действительно необходимая бойцу и герою.
Инна же не только позволяет - она приглашает, вручает читателям свои стихи - пожалуйста! - и ведет по своему дому, как за руку малыша, и вглядывается, прислушивается к нему. Научая его в первую очередь именно этому - ответному вниманию и благоговению. Уводя от прошлого, из пропитанного торгашеством Гамельна. Вознося в свой - Негамельн, подальше от базара - поближе к Храму.
«Счастливый день в Италии» - мой самый любимый ее роман - проникнут поэзией. Повествование ведется от лица еще не рожденного Человека – Зародыша, привносящего в мир горний свет чистоты и нарастающей нежности.
…а в нем - беспечное доверье,
и удивленье, и восторг…
Глядя на мир его внутренним взором, уже не ищешь ответов - просто наблюдаешь: повести и романы, и сказки, и живопись, и куклы вырастают, как дети и внуки, из этой маленькой книжечки стихотворений и, несмотря на зрелый возраст, продолжают смотреть на мир теми же глазами, что и наше годовалое дитя духа и литеры, излучая теплый свет благодарности и восхищения.
И мир, проникнутый этим светом, теряет свою тяжесть.