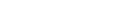От «Пасьянса…» – к круглому столу.
(эссе-приглашение к разговору о творчестве Инны Лесовой)
Представление новой книги Инны Лесовой «Пасьянс «Четыре дамы» состоялось в конце января 2007 г. в здании Галицкой синагоги, что на Евбазе.
Думаю, Инна правильно поступила, отказавшись от залов творческих союзов, учреждений, посольств, дворцов и т.п. Синагога подвернулась неслучайно. И не потому, что первую толстую книгу И.Лесовой «Дама сдавала в багаж» представляли здесь же. И даже не в том дело, что добрая половина ее персонажей – с «пятой графой». Синагоге, как месту встречи, изменить было трудно, поскольку в ее истории и в повестях Лесовой немало общего.
Храм и базар… Рядом – то замирая, то бравируя своей живучестью, то тише, то громче, но рядом, будто бы вместе по жизни…
Двадцатый век. Где ты, долгожданное «царство свободы»? Надо кормить семью, и хитрить, и выкручиваться, и тянуть эту лямку пролет за пролетом, как тетя Геня из «Вверх по Фроловскому спуску», и Сема Рабинзон, и Эшка… Как все, обреченные «бороться с жизнью и одерживать над ней мелкие победы». Не было у них времени на молитвы… И пусть синагога не обольщается: не ровня она базару. Горнее вырастало у нас из дольнего, и храмы возникали в душах домохозяек.
Еврейского базара, как известно, давно уже нет. Хотя и цирк, и универмаг, и двусмысленные улицы Воровского, Менжинского, Жадановского (ставшей снова Жилянской), по мере сил или против их собственной воли продолжают славные традиции Евбаза. Базара нет. А синагога вернулась, вышла из-под крыла завода «Транссигнал», сохранившего для нас, киевлян, бесценный оазис человеческого общения.
Размышляя о творчестве писателя любимого, близкого по духу, мироощущению и мировоззрению, более всего боишься даже не дифирамбов и превосходных степеней. Боишься банальностей, неизбежных для литературоведческих заметок, всех этих – «глубоких психологизмов», «мастерски выстроенных сюжетных линий», «точных реалистических портретов», «гуманистической направленности творчества», «внимания к деталям»… – штампов, за которыми легко потерять из виду главное, особенное, характерное именно для нее, для Инны Лесовой, для Инночки.
Да, да! И пусть меня простят господа литературоведы – ничего с собой поделать не могу – потому как для меня – «Инночка» – обращение отнюдь не фамильярное (хотя я горжусь знакомством личным) и уж, конечно, не уменьшительное во всех смыслах, и даже не то ласкательное, что так характерно для киевской культуры. Речь идет о том, что творчество Лесовой – родственно ее читателям и в бытовом, дольнем, и одновременно, высоком смысле, отразившемся в библейском тезисе «о ближнем». Пока автор видит в читателе ближнего своего – родственника, соседа, друга, коллегу – и не просто видит, а живет его жизнью, понимает ее и потому может действительно помочь тем, кто нуждается в его слове, –до тех пор труд писателя значим, востребован, до тех пор читатель верит ему… В молитве к Богу человек искренний часто обращается так: «Боженька, вразуми, наставь! Помоги, Боженька!» Я чувствую здесь параллель. В обращении «Инночка» я слышу «гуманистическую направленность ее творчества», но как раз не внешнюю, декларативную, притянутую (потому что быть гуманистом хорошо и правильно), а родственное – то самое, что глухим монашеским голосом определяется как «человеколюбие» – слово-знак, содержащее и детское, и старческое, и кукольное, и цветочное, и кошачье-собачье, и киевское в самом широком, нежном понимании.
Я оглядывал зал и убеждался: персонажи Лесовой очень, буквально в мелочах, похожи на ее читателей. Черты лица, возраст, манеры, блузки и броши… Вон там, в первом ряду – Вита Моисеевна. Одно лицо! И лодочки австрийские, и креп-марикен. Рядом со мной, не спрашивая, может быть, занято, уселся этот… из «Золота Хаим-Шаи» – Левка, со следами былого форса, и давай бестактно отбивать пальцами по столу! А тут еще слева, прихрамывая на левую, «указательную» ногу – как он пробрался! – прямо рядом со мной остановился ветеран в коричневом двубортном, добротном, нелицованном и так многозначительно навис, что пришлось уступать, пересаживаться назад. Я поднялся и в этот момент ближе к окну увидел Фриду. Но как она располнела! Да нет же, это не Фрида Аркадьевна – это Миля, конечно! Восьмидесятилетняя Миля, которая уже двадцать лет живет в Канаде, мамина подруга. А рядом, господи – Сонечка, ее дочка. Я был в нее влюблен… Так она приехала? И не позвонила?!
Я уже хотел встать и подойти, выяснить, но тут объявили начало.
– А книжек хватит? – закричали с галерки. И я тоже стал считать присутствующих, поскольку объявили, что презентуемых книг три пачки, то есть 60 штук, и безусловно на всех хватит. Я насчитал всего примерно 45 человек, отнял вычитанием персонажей и тех, что мне померещились. И временно успокоился…
Между тем ведущая принялась задавать вопросы. «Что движет автором, в чем особенность стиля, откуда автор берет идеи, как автор строит сюжеты…»
Вопросы я еще слышал, угадывал. А вот ответы… Хорошо, что рядом, слева оказалась приятная женщина, видимо, литературовед, ее соседка тоже плохо слышала, и та принялась пересказывать, вводить в курс, и комментировать, но уже от себя, и тут же писать что-то в блокнот аккуратным крупным курсивом. Левым я вижу хорошо, далеко. Еще со школы. И потому, несмотря на руку, слегка пододвинувшись к ней… Она заметила и мы улыбнулись друг другу…
«Читая Лесовую, не возникает ни малейших сомнений в том, что все описанное ею является, как говорят, «истинной правдой». Это достигается, во-первых, художественной зоркостью и молитвенным вниманием автора к деталям. Обращая внимание читателя равно на лицевую сторону и изнанку, заставляя нас окунуть руку в нутро рукава, сообщая технологию кроя, секреты кулинарии, рецепты гешефтов – Лесовая доказывает, что знает то время, век тот в нюансах – и на глаз, и на вкус, и на нюх и на ощупь – добивается полной, профессиональной достоверности. При этом сюжет, каким бы неправдоподобным поначалу ни казался, обрастая деталями, становится абсолютно убедительным. «Да-а, чего только в жизни не бывает!» – покачивает головой читатель. И не только сюжет и повесть, но и сама жизнь становится еще реальнее.
Во-вторых, – что еще более ценно, – бог деталей дополняется правдой чувств, стремлений и поступков. И эта правда многократно усилена противоречивым, колеблющимся, намеренно не совпадающим в различные периоды жизни отношением персонажей. Реальность вырастает из мнений, лжи (скрытой и явной), желания выглядеть лучше в своих и чужих глазах, глупости, неточности и небрежности, так свойственной отдельным ее персонажам; потому и правда кажется истинной.
Правда Лесовой всегда конкретна, мотивирована, вещественна. А вещи – насыщены преданиями, томлениями, высокими замыслами, душевной красотой, грехом, мерзостью, подлостью…
Наконец, люди и вещи отобраны. Расставлены на сцене. И кажется: вот сейчас автор начнет вязать их диалогами, двигать в одном ему известном круговороте, вести к финалу. Но… выходит-то совершенно инач! Автор садится сам и рассаживает нас в первом ряду и за кулисами, в суфлерской и на галерке, и тут действие начинается само собой, без ее участия, и остается только надиктовать увиденное.»
«Не могу с Вами не согласиться! – подумалось мне. – Автору действительно нет необходимости выдумывать свое Средиземье».
«Средисемье» Инны Лесовой населено такими живыми Троллями Ароновичами и Эльфирами Исааковнами, такими домашними дядями Энтями и неприступными тетями Фродами, что автору, действительно, можно подглядывать за ними, особенно не утруждаясь и не изощряясь сюжетно.
Но есть нечто, что делает творения Инны Лесовой «правдивее правды», переводя их из разряда семейных хроник в эпопеи, из единичного, бытового – в общечеловеческое. Из провинциального – в Провинциальное с большой буквы.
Герои Лесовой – типичны. И в том бытовом смысле, когда о молодой еврейской девушке (реже – юноше) родственники или соседи говорили: «Она типичная….» И это был, увы, не комплимент, а сострадание, понимание того, как непросто будет мальчику пробиться, и что за счастье будет ему с этой гойкой (подавай им всем русскую!), а твой летчик – что ты думаешь, он тебе не выкинет?! Дождешься и ты – это пока молодая – «кошечка, жидовочка моя золотая», а пройдет время...
Но что удивительно и характерно: такая типичность присуща не только персонажам с «пятой графой» Как пойман типаж Ляльки из «Девочки с таксой» или Райки из «Золота Хаим-Шаи»!
И все же сила и достоинства лесовойской прозы не только (не столько?..) в этом…»
Я задумался, но меня прервали – явились еще двое – типичные подольские орки с претензией на интеллект – и всем надо вперед, поближе к президиуму! Я снова забеспокоился: может они – персонажи – тоже претендуют, и хватит ли инночкиных книг на всех? И опять сказали, что хватит… А люди еще подходили; уже и за раскрытой дверью какой-то маленький, как гном, снабженец притащил высокий стул из бара с первого этажа и устроился на нем, как король… Рядом со мной пролез, влез плешивый, лупатый, гадкий! Щеки у горлума подергивались – то одна, то другая. И был он такой знакомый, со значком межрегиональной академии… И сразу стал что-то записывать в книжечку…
С учетом героев, всех присутствующих оказалось уже далеко за шестьдесят. А если кто-то выпросит и для лежачей соседки, инвалида первой группы, ветерана и узника Мордора?
Я почему-то знал, что буду стоять в конце, не полезу через седые головы. Я уже был уверен, что останусь без «Пасьянса…». И винил в этом и идиллического Гоголя с его «Старосветскими помещиками», и честного к своему народу, нелицеприятного Нечуй-Левицкого со «Стародавними батюшками и матушками», и Богдана Ступку, народного артиста Украины, открывшего для меня Шолом-Алейхема в резонансе межнациональных страданий и боли. И, конечно, тех героев Лесовой, сложные души которых, в отличие от шахматных характеров «фэнтези», не вожделели победы над врагом любой ценой, а искали компромисса, готовы были уступить – и очередь тоже…
Я посматривал вокруг и радовался, наблюдая, как хорошо слушают. И как здорово, что и эту синагогу удалось вернуть и использовать по назначению. А ведь могли снести, взорвать… Если бы не ловкий ход, хитроумная операция, проведенная на рубеже двадцатых-тридцатых годов.
Сменили вывески! Чем не идея! Превратить храм в клуб кустарей, куда приходят те же люди, пусть без кипы, пусть не помолиться. Помолчать вместе – тоже немало. А то и вздохнуть, и многозначительно поднять брови. Оставив разговор для кухни, а лучше для спальни. Так – мягко – вывели их из под удара. Когда же к концу тридцатых с кустарями тоже покончили, под теми же крышами уверенно и естественно разместились заводские столовые, школы, театры кукол…
Марина Левина, поэт и историк, водившая меня по Подолу в середине семидесятых, рассказывала об этом вполголоса и как-то особенно проникновенно. Но я, русский мальчик, увлеченный собственными стихотворными опытами, слушал ее в пол-уха. И в самом деле: какое мне дело до этих двухэтажных развалюх без стекла и бетона. Мысли о том, что места отправления культов берегут культурное наследие, что храмы хранят душу народа – были для меня, советского студента-первокурсника, мягко говоря, неочевидны. Не понимал я и того, что на самом деле Марина вела речь не о смене вывесок – об умирании еврейской культуры, постепенном и неуклонном, когда и храмы, и залы филармоний, и читальные залы стали пустеть, а за ними – и секции юных техников, шахматные школы, клубы авторской песни, дома ученых – и пр. и пр.
ХХ век. Век Исхода…
Нет, я знал, безусловно знал и о погромах, и о «деле врачей», и о том, что в вуз поступали, сменив запись в пятой графе… Из военного училища, где учился отец, вычистили всех, имевших подозрительные фамилии. Нет-нет, кацы, коганы и рабиновичи там уже давно не учились – отчислили хруцкого, ветвицкого, семидоцкого, которые клялись, что и близко не лежали, писали в разные инстанции, добивались восстановления…
Да, я замечал, что кое-кто – и даже многие – стали скрывать свое еврейство, как-то стали стесняться идишевских словечек, отказались от песен, танцев, праздников и субботы. Слова «типичная внешность» все чаще произносили с сожалением и сочувствием. Детей перестали называть хаимами, аронами. Давида перекрестили в Диму, Самуила в Семена, вспомнили, что Изяслав – славянское имя, сокращаемое – Славочка, а не Изя…
В трудовых коллективах осуждали «отщепенца Щаранского». И губы у выступающих сами собой изгибались, выражая отвращение к этому «отщепенцу Щаранскому», произнося удвоенное «ща» с особым презрением и пряча глаза от главного бухгалтера – в общем-то хорошего и доброго человека. И Сашку побили в школе за это…
Всю глубину национальной трагедии я осознал, однако, только в начале перестройки, когда за какие-то три года уехали ближайшие друзья, один за другим.
Киев, Украина, Русь – обезъевреили, потеряв нечто исключительно ценное, редкоземельное, каталитическое. «Осталось у тризуба – два зуба…» Но этого будто бы никто и не заметил.
Впрочем, нет. Слава богу, что – «Нет!» Заметили.
Академик Толочко на вопрос «Что значит для Вас «Бабий яр»?», ответил примерно так:
– Мой друг эмигрировал в США. Мы пишем друг другу, звоним... Но встретиться, посидеть вдвоем, пройтись-пошататься по Киеву – увы… Я глубоко чувствую эту потерю… И это – один человек…Умножаю на 80 000…
Число же евреев, уехавших из Киева за последние 40 лет, составило тысяч двести …
Между тем, Инна отвечала на вопросы. И становилось понятно, почему в центре внимания автора – жизнь человека, взятая целиком, от рождения до смерти. Счастливое благополучное дореволюционное детство, и революция – время перемен и максимализма, первая любовь и комсомольские свадьбы, и дети, и страх за детей и мужа. И Война – с воем, с болью – с единственным, но таким долгим страшным «О-о-о…» И утроенное «О!» в Холокосте… В шестидесятые Ее героиням (героям) было под шестьдесят, в семидесятые – под семьдесят… И Черн-о-о-быль, ускоривший Исх-о-о-д.
«Жизнь персонажей Инны Лесовой, – строчила приятная литературоведка, – показана в контексте общей судьбы народа – и хронологически, и сущностно, психологически точно и глубоко мотивирована, невероятно подробно и вещно увязана с контекстом. В отличие от иных романов-эпопей, где судьбы героев разворачиваются на далеком и как бы декоративном фоне времени, или, напротив, внешние обстоятельства руководят, тащат, перемалывают жизни – у Лесовой они (обстоятельства) являются поводом для осмысления, вопросом, который непременно требует ответа. Герои Лесовой реагируют всегда. Потому что дать ответ миру, родне, соседке, себе самой (причем ответ не только делом, а непременно – словом – словом точным, убедительным, доказательным) – национальная, родовая особенность ее героев.
Повести и романы Инны Лесовой чаще всего окрашены, или… нет, скорее исполнены печали. Нет, и это – не то. Наверное, лучше автора не скажешь – в них – «печаль, густая, как мед».
(Какое емкое, требующее развернутого комментария, определение! Мы переглянулись, и я заинтересованно кивнул.)
«Она (печаль) – везде и всегда. Даже в тех случаях, когда главный герой не умирает на последних страницах, читателю становится ясно: значит, уедет. И смерть расставанья, как сказано (спето), совсем не кажется маленькой… Но печаль Лесовой – выше, значительнее банального «все там будем». Трагизм ее произведений замешан на трагизме эпохи, Исхода и умирания нашей еврейской культуры, с одной стороны, и трагизме Человека вопрошающего и отвечающего, с другой. И это не умствование. Непрекращающийся диалог «о времени и о себе» касается простых, ежедневных вопросов: здоровья, детей, быта, работы, и так незаметно перебирается к вопросам верности, совести, любви, вечности, что главная мысль, обостренная мучительными ветхозаветными повторами и метаниями, центральная идея автора становится физически ощутимой. И именно в силу этого диалога – судьбы ее героев наполняются смыслом, а значит, и оптимизмом, независимо от того, насколько печален конец.»
Слева страницу за страницей заполняла женщина-литературовед, а справа...
Плешивый с таким азартом строчил в свою книжечку, что я невольно отвлекся и благодаря возрастной дальнозоркости смог разглядеть в его блокноте очевидные для данного места строки о большом таланте Инны Лесовой.
«С каким вдохновением, с какой неприукрашенной правдой жизни, – читал я, еле успевая за его рукой, – показывает она мещанство и вещизм, жадность, зависть, неуживчивость, мстительность, высокомерие и другие язвы этой нации! Не жалеет она своих, проявляя истинный патриотизм – честный, полезный для очищения, оздоровления этой порочной нации. Взять хоть капитана-еврейчика, который бросил Лялю Боброву, искупившую на фронте свою вину! А милая старушка, «цыганочка» Вита Моисеевна Эльзон, в девичестве – Блейнис? Как она жрет экологически чистые продукты, передаваемые из Москвы! И не делится даже со своими собственными детьми и внуками! На второй же день после чернобыльской аварии поспешила убраться из Киева вместе со всеми кацами и коганами!»
Возбужденный, гордый написанным, он поднял головку на тонкой шее, оглядывая аудиторию. А я отвел глаза, принялся искать ответ. И на память пришел Сашка Шаргородский, за три года схвативший в Зоне достаточно рентген, чтобы уйти молодым. И полезли – словно в отместку – и авторы «Персонала», и начальство, которое выгнало детей на майский парад 1986 года, и полицаи, и погромщики – века двадцатого, века семнадцатого…
Утроенное «О!» в Холокосте. Учетверенный стон в «Голодоморе»…
Когда Валя Черная, наша сельская соседка, рыдала на могиле матери, Галины, сгоревшей в собственном доме (почему-то она не могла выйти, словно кто-то держал дверь снаружи), – соседи, знавшие старуху с довоенных времен, припомнили, что Галина – «так люди казалы» – приманила в голодомор хлопчика беспризорного, и сварила, и тем спасла своих. «Тот хлопчик и держал дверь.» – шептались соседи.
Заглядывая вместе с Инной Лесовой в страшный яр под номером ХХ – два креста, – понимаешь: страдания и грехи народов Украины так пронизали историю ушедшего века, так сплелись и срослись, что неважно, какой нации была Галина Черная, и какой – тот приблудившийся ребенок, и по какой лестнице пришла Россия в революцию, и какой национальности были те, что сидели в «тройках» и лагерях, были полицаями и партизанами. В отличие от Толкиена, от Средиземья, гномы нашей земли не могут победить, гоблины – согласиться на поражение, а эльфы – уйти за море. В реальности так не бывает. Нам суждено жить вместе, даже если временно кто-то куда-то и уедет. И рядом сидеть на презентациях книг и в Верховной Раде. Потому что мы – родня. А страна наша – Средисемье, родина, ради которой писали и Гоголь, и Нечуй-Левицкий, и Шолом-Алейхем, и, слава богу, продолжает писать Инна Лесовая. Сама, может быть того не замечая, она выходит за пределы личного, семейного и национального; при этом общность судеб народов, живущих на земле Украины, выводится, формируется из этих самых личных и семейных историй, личной и семейной правды. То есть типичность, наднациональность, общечеловечность рождается естественным путем, сама собой, подтверждая истинную зоркость писателя как прибора, отражающего и место, и время, – и мыслителя, глубоко понимающего смысл жизни безотносительно к пространственно-временным и другим условиям ее протекания...
Но почему? Почему каждому подонку дано право перевирать, выворачивать факты и ссорить, стравливать народы?! А мы, я – почему-то обязаны сдерживаться…
Я схватил его за горло, то есть понял, что сейчас схвачу его… А потом решил: выброшу сейчас же его записную в окно и он сам побежит вон… Жаль, окна закрыты…
О-о-о!
Пока я соображал, что с ним сделать этакое – горлум поднял руку, встал и на удивление громко произнес:
– Я хотел бы спросить у присутствующим, почему Инну Лесовую – писателя мирового масштаба – до сих пор «не заметили» Союзы писателей России, Украины, Израиля? А пока будете думать – отвечу я.
Он прокашлялся.
– Что касается России и Украины, одной из причин является тупой самодостаточный антисемитизм страдающей маразмом «молодой гвардии»; только в России он сохраняет запашок шовинизма и великодержавного превосходства, а у нас – зависти и комплекса провинциальной неполноценности. Иные попросту Лесовую еще не читали. И тиражи ее книг – спасибо, конечно, «Духу и Литере» – мизерные, и круг читателей «Радуги» и «Егупца», печатавших ее произведения, невелик.
Окинув взглядом аудиторию, он продолжил, избоченясь:
– Добавлю, что и ваш, господа присутствующие, Израиль тоже «не видит» Лесовую. Поскольку «иврит русского, как и идиша, не разумеет», и не может ей простить отсутствие в ее творчестве сионистской составляющей. Как это? Еврейский писатель – и не сионист?! Как можно быть гениальным писателем и не звать «на будущий год в Иерусалим», а напротив, всей силою своего таланта показывать и подтверждать жизненность и грядущий расцвет русской еврейской культуры в Украине и мире?!
– Позвольте! – вспыхнула литературоведка. – Не будет такого расцвета. Не с кем!
– Нет, нет, позвольте мне, – я тоже включился, – я знаю, здесь нужно ответить так, я бы сказал так: – Ваше объяснение, уважаемый сосед, представляется мне поверхностным, основанным на устаревших мифах и штампах, то есть скорее банальным, чем сущностным. Думаю, три «новых» государства, – Израиль, Россия и Украина – а значит и официальная критика, формирующая общественное мнение, по определению хотят героики – гардемаринов, сибирских цирюльников, мазеп, роксолан… Лесовая же принципиально и высоко провинциальна. К сожалению, ни наша, ни тем более российская политэлита, а, значит, и их литературные клевреты не готовы признать, что душа народа – не козацького роду, и не шабля, не калашников и не высокая трибуна у него в руках, а нитка, иголка, терка и мясорубка, сапка, тряпка, прилавок, калькулятор, телефон, компьютер, кисточка… И руки эти не в крови, а в краске, в земле, в муке, в мыльной воде и пене, потому что чистые пеленки куда важнее и интереснее ура-патриотизма, наркобизнеса и ВПК.
Лесовая же возвращает нас к пониманию наивысшей ценности Семьи, Внутри- и Межсемейной жизни, и нации у нее обретают самость и колорит во взаимном отражении, сплетаясь ветвями Соседства и Родства. Ясно, что такая литература – литература Гуманизма – антонимична литераторам провластным, а значит, и ждать госпремий не приходится.
– Но есть еще и читатель, – вставила литературоведка, – которому обрыдли детективы под прокисшим марининадом, надоели и шахматные характеры персонажей фэнтези, и ложная, спекулятивная философичность алхимиков?!
– Безусловно. И это – читатель Лесовой. Кстати, ее читательский круг, возможно, гораздо шире, чем это может показаться на первый взгляд. Массовый читатель начинает жаждать настоящего. Осталось убедить издательства в коммерческой выгоде. Здесь есть представители издательств, кроме «Духа и Литеры»?..
Да-а… Пока решишься, соберешься с мыслями… А может, и хорошо, что не встал и не сказал, не увел собрание в сторону…
Тем временем Евгений Черняховский и Ольга Самолевская читали Лесовую, не известную мне, еще не изданную. У Жени дрожал голос. А Оля расплакалась в конце…
Зал так затих, словно стены и потолок расширились донельзя. И все куда-то исчезли. Я – один в храме. И только голос соседки-лесовода, мимо, в пространство:
«Были Лесовой документальны, достоверны. Но и профильтрованы и отстояны. Менее важное – уже мутно, размыто, а главное подано не в центре, но так, что внимательный читатель к этому в конце концов приходит. Метод замещения, когда вещь, вокруг которой как бы развивается действо, уступает место тонко обозначенной мысли, приводящей в трепет и томление благодарного читателя, когда физический центр композиции перемещается в читательские головы и сердца, – этот метод освоен Лесовой виртуозно. Так, исподволь, без морализма и упрощений, читателя подчиняет, завоевывает глубокой гуманизм ее произведений.»
Да, да, все правильно, – мысленно соглашался я. – Еще обязательно нужно сказать о нравственном масштабе...
«Нравственный масштаб творчества Лесовой, ее жизненных эпопей, определяется, на первый взгляд, известной проповедью терпимости, сочувствия, жалости и любви. Пожалеть человека, как такового, достойного и никчемного, мудрого и без царя в голове, самоотверженного и подлого в своей зависти и жадности, большого и маленького, подростка и старушку…
Инна Лесовая, как государство Израиль, принимает всех. Особое место отводя при этом старикам, накопившим за свою жизнь небеса святости и подземелья – мерзости. Но именно этот багаж прожитой жизни и заставляет нас, следуя за автором, прощать, и ухаживать, и выносить судно до последнего часа, какие бы проклятия ни посылали они на наши головы. Если бы Лесовая остановилась на этом – и тогда ее произведения, цельные и мощные, блестящие по форме, композиции, колориту, явному и скрытому замыслу – и тогда бы стали они в ряд краеугольных нравственных книг ХХ века – в один ряд с произведениями Андрея Платонова, Ивана Шмелева.
Но она идет дальше. То есть не то что дальше – дальше некуда – что может быть выше – «возлюби врага своего?»
И верно: не дальше вперед, а сворачивает на боковую аллею и, усаживаясь на скамеечке в тени каштана, предлагает порассуждать – в свете иудео-христианской любви – о ценности человеческой жизни.
О том, что самые пустые, глупые, ненужные жизни – и алкоголички Ляли из «Девочки с таксой», и дебила Ленечки из «Места на фотографии», – бесценны уже потому, что способны вызывать жалость окружающих, а значит, и делать этот мир лучше.»
И я кивал, соглашался. Автор – и это безусловно, правильно замечено, и видно невооруженным глазом – любит своих героев. Наряжает… Как кукол? Нет, как живых. И старается, чтобы не только ей, но и им нравилось. Хорошо, вкусно и питательно кормит. Растит и лелеет. Дает образование. Выдает и женит. Опекает до старости. Или просто забегает по-родственному или по-соседски. Справиться, помочь в случае чего. Ну и поделиться, порадоваться вместе. А то и поплакать… И герои ее уважают. Та же Райка… Ну, не дал бог отзывчивости и доброты. Она-то в чем виновата? Кто знает, может и все они, иудины апостолы, тоже часть большой игры, кукольного театра, или нет – кукольного производства? Шагнувшие за рампу, за прилавки – в семьи, занявшие свои законные места в колясочках, под кукольным торшером, и превратившиеся затем в какие-то вожделенные авто, дачки, любовниц, и на старости лет обернувшиеся статуэтками на комоде, сериалами и воспоминаниями… (Райка!.. Наверное автор знала о том, что отрицательные персонажи, как правило, получаются живее положительных. И сказала: «Нет!» И сделала Эшку – живее. Вот. Мы тоже кое-что можем… И получилось! Поэтому Эшечка и заходит чаще других. Не обязательно к автору – ко мне, к сидящим здесь на презентации, к разным другим читателям. И это правильно. Мало у нас еще таких персонажей.)
И все же – при всей любви – писатель должен держать дистанцию по отношению к своим героям. Мама была права, когда говорила, что нечего было приглашать Райку в дом. «Думаешь, она что-то поняла? И сделала выводы? Если уж бог не дал, так будь ты сто, тысячу раз гениальный и талантливый писатель – ни за что не исправишь… Я бы сразу сказала: «Извините, Рая. Вам мало Левки, так вы сюда повадились?!» (Сука!) Конечно, она запоет:
– Что вы, Инночка! Да у меня и в мыслях (знаем мы эти мысли!), вы же меня и в повесть, я вам так благодарна (нашлась, благодарная! она слова такого…)
Короче, я все сказала. Делай, что хочешь…
И ушла на кухню.
Дистанция… Наверное, мама права… А как писать о посторонних?..
Презентация Галицкой синагоги, как зоны высокодуховного общения, в контексте новых повестей Инны Лесовой проходила в целом успешно. Приятно улыбались охранник при выходе и буфетчицы в антрактах. Уместно выглядела информация о службе знакомств, кружке еврейского танца. Хорошую лепту внес плакат, посвященный строительному подрядчику Льву Гинзбургу, который, как выяснилось, построил в начале ХХ века лучшие киевские здания: Театр оперы и балета, Педагогический Музей, Театр им. И.Франка, Театр оперетты, Национальный Банк, ряд синагог и молитвенных домов…
Когда в самом конце четвертого отделения Инна прочла поэму о любви, я почувствовал, какой живой плотью оптимизма исполнены ее творения. Я понял, что лесовианское жизнелюбие питается от подземных тщательно оберегаемых хранилищ доброты, тысячелетиями соблюдаемых традиций подражания лучшим примерам, извечных, как храм и базар, достоинств народа Книги…
Изумителен Сема Рабинзон, наступивший на горло ревности ради жены и семьи. Глубочайшим даром сочувствия и деятельной помощи наполнена жизнь Эшки. А бульончик, что несли Ленечке люди посторонние? А куклы, призванные вызывать жалость…
Благодаря Инночке кажется, что, несмотря на потерю языка, друзей, врагов и соседей, не говоря уже о родном дворе, и улице, о Киеве или Одессе – несмотря на потерю Родины, несмотря ни на что – и на новом месте народ обживется, и справится, и сохранит свою душу. А, значит, и Исход не кажется таким страшным и непоправимым…
Я набрасывал заметки, попросив у горлума листик, и теперь уже он заглядывал мне через руку, и, наконец, не выдержав, хмыкнул:
– Ну да, с позиций исходящих… Им-то чего?! Типичный еврейский эгоизм! Что им до нас, оставшихся? Пле-вать! Я бы на месте Фараона…
…Инна прочла поэму о любви, и тишина, пауза восхищения была так длинна и светла, и я понял, почувствовал, – именно сейчас, после Исхода евреев из России, СССР, Украины, – Исхода, охватившего весь ХХ век, наступает век ХХI – век Возрождения еврейского народа на его исторической родине, то есть – здесь: в Киеве, Одессе, Каменец-Подольском, Бердичеве и пр. и пр. – наступает эпоха Ренессанса его культуры на русском языке, восстановления и обновления Еврейского отдела Русской библиотеки, Еврейского мира великой Русской культуры.
Откуда такая уверенность?
Все очень просто. Мультиполярный мир требует равноудаленной точки. Этой точкой не может быть ни одна из бывших империй и ни один из новых претендентов «порулить». В геополитическом отношении Украина объективно срединна. По всем параметрам. Транзитная роль нам обеспечена. Но если мы мечтаем превратить захолустный перекресток в культурный центр Европы и мира – страна должна быть интересна.
Войны, трагедии, катастрофы и революции – все то, что притягивало к Украине мир в ушедшем веке – было кратковременным и, надеюсь, останется в прошлом. И слава Богу.
Страна-мученик всем надоела.
А что в культуре соответствует идее срединности?
Идея гармонии и гостеприимства! Шире – идея благополучного дома. А значит – и крепкой семьи, и разумного быта, и нетронутой природы… В нашем доме – всем нациям хорошо. Пусть расцветает сто цветов!.. Вперед, в провинцию! Мир объективно ищет провинциальный центр с традиционными ценностями. Мир, идущий в космос, сильнее тянет к земле.
А если к этому прибавить хороший анекдот от Жванецкого и «Голохвастова», галерею современного искусства Пинчука, киевских красавиц и «земное притяжение» еврейской культуры, аккуратно уложенное в багаж, тщательно хранимое, спасенное Инной Лесовой?..
О-о-о!
И это «о!» – совсем другое. На это «о!» и обратно поедут. И друзья вернутся. И молодость!
Чем не «фэнтези»?
Мы живем в удивительное время. Действительно, мы не можем назвать Толстого – Левушкой и, даже забашляв ловким ребятам пару штук баксов, вручить ему на Конгрессе портрет с рукопожатием президента и знак «Высшая проба» за вклад в родную литературу, или присудить Коленьке премию Фонда им. Великой России для граждан Украины, пишущих на русском языке – Гоголю она уже не нужна.
Но у нас – следуя ласковой киевской традиции – есть счастливейшая из возможностей: ободрить и обласкать Инночку Лесовую, низко поклониться ее мужу и маме, послать всенародный привет ее родным в Израиль, понимающе улыбнуться ее состоявшимся читателям, а главное – сообщить русскоязычному населению планеты, разводя иронически руки и отводя кокетливо глазки:
– Что делать, гениальна земля наша… Спешите! Тираж ограничен.
Вот и мне, как и миллионам будущих читателей Инны Лесовой, книги на презентации не хватило. И я не стал возмущаться, не стал жаловаться. Я опять промолчал…
Хотя, что – я? – молчит Союз писателей Украины вкупе с Посольством Израиля и тянут резину насчет учреждения Шолом-Алейхемской премии мира Инны Лесовой в области живописи и литературы.
Что – я? Если молчат спонсоры – господа Ахметовы, Бродские, Васадзе, Григоришины, Живаго, Коломойские, Майберги, Нусенкисы, Порошенко, Суркисы, Тимошенко, Ющенко, Януковичи – не понимая, что лучше дать деньги сейчас, до прочтения Инночкиных книг, потому что, я Вас уверяю, после прочтения дадут намного больше! Впрочем, им будет не жалко.
Молчат…
А я не буду. Убежден, пора начинать акцию: «Книги Инны Лесовой – в каждый дом!»
Пока же издатели готовятся, приглашаем читателей к Столу.