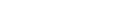Яша кушает рыбу
Строгим, неулыбающимся я видел его, только когда он ел рыбу и, панически боясь аппендицита, или, не про наш дом будет сказано, заворота кишок, негромко покрикивал на нас с мамой:
- Тише-тише! - мягко выговаривая не “э”, а именно “е” на конце. - Тише-тише! - шикал он, протрагивая и прощупывая передними зубами и губами каждый маленький кусочек, и доставая пальцами кость, и рассматривая ее, прежде чем уложить на край тарелки.
Однажды он - он! - подавился костью, и лицо его стало красным, надулось, и он стал харкать, делая руками в воздухе, кричать “дайте корку, корку!”. И, проглотив, все еще лазил руками в рот и, испуганно поглядывая на нас, долго еще не мог отдышаться и прийти в себя.
Нет ничего страшнее костей в рыбе, причем именно не крупных, а мелких, острых, имеющих привычку прятаться в самых мельчайших кусочках.
“Здесь много мелких костей!” - говаривал он неодобрительно, приступая к рыбе, и как бы предупреждая нас, что есть надо не торопясь, не разговаривая, не спеша, со смаком обсасывая голову, пачкая рот и все пальцы рук.
Яша ел самозабвенно, прикрывая глаза и погружаясь вытянутыми в трубочку губами в этот рыбный, фаршированный сок и мелкие, опасные кости, в наслаждение и страх, в эту посасионату головы, и потел, и огромный его римский лоб покрывался капельками, и он не стряхивал, а как пожилой усталый музыкант - утирал пот и вместо того, чтобы достойно откланяться - вежливо, но внятно отрыгивался.
Бабушка, сидевшая здесь же с набитым ртом, - а она ела рыбу как морковку, с хрустом, не боясь ни костей, ничего, - испепеляюще зыркала на Яшу, замахивалась, а то и без предупреждения лупила его кулаком. Раз! Два! А он только отворачивался, подставляя спину, улыбаясь и причмокивая: “В здоровом (ням!) теле - здоровый (ням!) дух!”