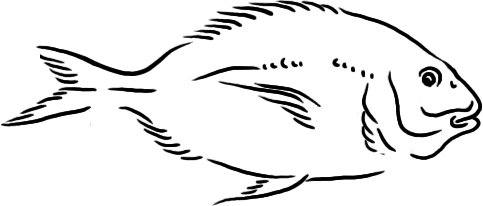
риба моєї мрії
— Хилька не бачив? — спрашивали.
— Вже побіг, — отвечали.
— Давно пішов? — спрашивали.
— З рання, — отвечали.
— Під моста? — спрашивали.
— На широку, — отвечали.
И было той информации довольно, чтобы задуматься. І швиденько зібратись, і побігти до човна, тому що «Хилько даремно не піде, мабуть карась пішов» або ж «окуньчики беруть… на черв’яка чи, може, плітка на мастирку», або ж «на картопельку короп узяв», — на такой полусырой, обязательно недоваренный картофельный шарик. Данилыч вырезает ножичком и насаживает на самый кончик крючка — ну в точности получается как начебто лунный глобус.
***
А Наричка вьется, прячется за каждым поворотом — и в очерете, и в плавнях, то разделяясь на протоки, а то разливаясь широко, подмывает кручи, а за Лохвином блестит на перекатах, и снова — в тень, в тихие заводи, где вода почти замирает и стоит над омутами и ямами, а на вырве, что под островом Кохання, заворачивает против себя, навстречу, и вдруг распадается на ставки и ставочки, и бьет ключами в оврагах, и заполняет карьеры — сочится земля соками и питает ими Рыбу — внутреннюю нашу вселенную, полузакрытый мир, блаженный эон, ежедневную мечту.
А Нарічка в’ється… наче хтось написав або пише листа, пише, а не друкує, і літери тримаються одна одної, і переливаються одна в другу, наче курсивом… «Риба. По рибу. На рибі».
Хто, скажіть, хто про неї, маленьку, і чув би, якби не Риба?
***
Земля. Хата. Корова. Риба.
Хата та Корова — то жіноче, більш жіноче, ніж чоловіче.
А Землі — нема. Є горoд та колгосп. З горoду — живуть, а в колгоспі — беруть. Взяв сіна, взяв добрива. Тобто вкрав, ні не вкрав, а взяв, але, щоб ніхто не бачив, бо скажуть — вкрав. Колгосп — це не земля, це — каеспе — щось гидке, не моє, чуже, чужинське.
А горoд — як картопля: виорати — посадити — підгорнути — потруїти — зібрати, і знов — виорати — посадити — підгорнути — потруїти — зібрати, і наступного року, і так усе життя.
Горoд — це повсякденне, як хліб, як родина. Горoд — біля хати. Більш жіноче, ніж чоловіче.
Горoд — не для козака. І козак — не для городу!
Риба! О! О-о! Ото — козацьке! Вона й їжа. І спорт. І хвантазія.
Риба — на волі, за межами — і хати, і горoду, і колгоспу.
Тому й біжать на рибу зрання — подалі від жінки, від роботи, від усього… Зрання, коли ще сонце не зійшло, і туман, як таїна, і таїна, як Бог.
***
Как до нас добраться? А дуже просто.
— Сначала автобусом от Киева до Великих Цебек, потом еще 40 км автобусом до Шануйлівки, а з Шануйлівки — ще шість кілoметрів — Рaчки… — говорю я и уже улыбаюсь, и вы, если хотя бы немного знаете мову — тоже улыбнетесь, а то и хмыкните — мол, не простой анекдот, с подтекстом, потому как Рaчки — с ударением на первый слог — означают способ передвижения «раком», именно так, как стояли и стоят на огородах селяне, стояли и стоят уже сотни и тысячи лет, то есть, если вы и вправду желаете «добраться» — ставайте поруч, то есть рядом, и — уперед. А иначе, о-о-о! Навряд ли у вас это выйдет. Без выучки, без опыта земледелия человека на земле вам не понять, как не понял его я, и потому готов был уже смотать удочки и вернуться от этой темы в гoрод, с ударением на первый слог, в отличие от горoда — огорода то есть, так у нас говорят. Вроде всего-то одно ударение — а дистанция, как недавно услышал, «цивилизационного масштаба»…
Однако же, удочки не смотал, а наладил.
Тридцать лет мы уже тут, за 120 км от Киева и 200 км — от Чернобыля. Тогда, в 1986-м, тестю того показалось достаточно, чтобы хоть как-то обезопасить внука. Так появилась хата, кирпичный недостроенный дом, поначалу без перегородок, полов, веранды, зато с 20 сотками сада и огорода, появились новые заботы и соседи, новая река — Нарічка і нова земля навкруги — наче інша планета, яку ані батьківщиною, ані вітчизною я назвати не можу — все мои родители — в Киеве; якби було таке слово «сусідчина» — а так лучче сказать по-руськи — «дача», або, якщо бажаєте, — «хата на селі» .
Нет, честное слово, я бы не решился, и срок тут ни причем; что это за срок?! Пишу, потому что люди уходят. Уходят вслед за рыбой…
***
Идет дождь селом…Нет, не так. Это в городе — дождь: деревьев мало — не шумит, а стучит по стеклу, по карнизу…Там — доЖДь…
А на селі — «дощ-щ-щ-щ»… Іде, іде дощ, шумить на дворі, тече по вулиці, ляпає по підвіконню, поринає в кущі, рахує листя…
Одно дело — асфальт, а зовсім інше — поле чи шлях, де крапля, розрізана травичкою, до землі так і не доліта — перетворюється на шепіт, або ж — якщо дорога стара, уторована — падає вона на пил, без звуку, і там зникає…
— Я тоді ще пив, — говорит Валера, — лежу на дорозі, аж тут гроза — краплі великі-величезні — баххх! Бахх! — лежачи добре розгледіти мона: крапля — бах! — біля ока — наче в сіре житнє борошно — бах! — і над кожною пилова хмарка підіймається, я аж задививсь-замріявсь, а тут як загрими-и-ить! Як вдарить! Ні, нема чого лежати, треба до хати…
Йде дощ… А до речки еще надо дойти, не промокнув, и потому там, где можно, идем дорогой, а ноги сами ускоряют ход, сами, кто их подгоняет?
Может, дощ?
— А Хилько вже побіг... Куди?
Нет, дощ не подгоняет, шелестит, успокаивает. И остается нырнуть с дороги в кусты, то есть в кущі, с дороги направо, и пойти тропкою под зеленой крышей, густымиприбрежными зарослями,пойти, пригибаясь и обе-регая удочки, под акациями и ольхами, и выйти, но не сразу к реке, а в узкий, глухой, как восточная улочка, коридор в очерете — а тут уже и лодки, цепи, замки и ключи на веревках и тряпках, весло, припрятанное в кущах, все как надо…
Говорят, в дождь хорошо клюет.
— А не слухайте нікого. У дощ добре спати, просинаючи життя. Але, звичайно, якщо ви вже там — на рибі, — вертатися нема чого — сидіть, пильнуйте, все може бути.
И я тяну с собой батину плащ-накидку, офицерскую, с капюшоном, а при наличии «резиняк» — так Василь називає гумові чоботи — і стільця. Сиди, пильнуй, риба заснути не дасть…
— Ну, як? — слышится из тумана…
А кто ж это может быть?..
— Та-а…
— А я взяв щучку і судачка.
— З моста?..
Из тумана появляется знакомый силуэт — Валера? Он! И походочка характерная, мягкая такая, индейская.
— А я чую голоси… Хто це?.. Ну, здоров будь… — он заглядывает в лодку, а там уже кое-что блестит. — О, відкупилася, — каже, маючи на увазі — кого? Річку? Чи, може, — долю…
Валеру не всегда и поймешь.
— Та-а, — отвечаю я, как Вася, с небрежной солидностью.
А Валера закуривает, забирается в соседнюю лодку, как раз между нами. У него тоже армейская накидка с капюшоном. Та еще, что с Карелии. Если кто с тропы посмотрит — три монаха на молитве, а приглядится: не, лучше — на рыбе…
Валера вже відробив, рыбу занес в хату, и я жду, когда он спросит «Ну, як там?», маючи на увазі Київ, владу, олігархів… Спросит и сам же разложит, бо не тільки з газет, але ж має й інші джерела... І то вам не шануйлівські чи то великоцебешні — у Києві має не абикого, депутатів чи козацького гетьмана, тьху, хай їм грець.
Про нього і кажуть — «не наш», кажуть і рачківські, і зухвалівські. А чому? Тому що перша його забаганка — Карелія, дивна північна країна рибалок. Ні, не так — див-на! північ-на! фантастич-на! краї-на! рибалок і риби — рыбы, какой хочешь и не хочешь — царской, королевской, императорской: си-иг, нали-им, яа-азь — прижмуриваясь — а ку-умжа? — удивляется, сам как будто не веря в эту морскую форель, — а ха-ариийюююссс! — и всем ясно — такой не бывает, ни тут, ни в раю; а щуки такие, что ежей целиком могут заглотить, — ляпает Валера. (Зачем он это сказал?!)
И всем сразу ясно: «Бреше…» Тому й кажуть про нього — «не наш», або «знов свою Валєрію заводить…» , то есть заливает не в меру, какой бы рыбацкой ота Калєрія не була…
— Так чого ж ти повернувся сюди, якщо там отаке?
«Бреше… Ха-рі-юс...»
А если к этому добавить, що не п’є. Э-ге… Эге-ге. Тут уже можно, что угодно пришить, в том числе и последнее — только у нас не кажуть «москаль», а просто «не наш» — что в переводе означает, кроме всего прочего, полную никчемность: «І в хаті геть нічого — підлога глиняна, двері підпира лопатою, і в садочку одна яблуня — велика, так, але ж одна-одненька, а на городі — хіба що картопелька, двадцять три кущі — і зусь…»
Одно Валеру спасает — рыба к нему идет, идет даже тогда, «коли не хоче, і жодної нема», и бегут с рыбалки домой огородами, бегут, чтобы не объясняться, не оправдываться… А к Валере — идет, особенно хищная, судачок да щучка, и я тоже кумекаю, что-то тут нечисто. «Чому саме хижак? Щось, мабуть, він знає…»
***
Со мною так: приехал из Киева, даже, допустим, в Полтаву, бросил вещи в гостинице, вышел и будто с разбегу — в воду, в иное вещество времени, в замедление жизни. И взоры, и улыбки тут дольше, и размышления, и ответы проще и короче. Я знаю, мне полезна неторопливость, и кисель я люблю больше чем компот, и на вечерний клев меня уже тянет не меньше чем на раннюю зорьку.
Наверное, поэтому я не люблю мегаполисы, — за толпу, за обгоняющий тебя поток, в котором и тот, кто толкнул тебя, им же и увлечен, и не успевает извиниться, — а чего, в сущности, извиняться, если и с ним точно также...
В Рачки я приезжаю обычно на выходные, прибываю, как поезд, переполненный суетой. А что делать — привык, и давно уже не печалюсь, что живу торопливо, поверхностно, растрачивая себя на мелочи, на какую-то ерунду. Первый день — суббота, — уходит на то, чтобы выдохнуть, осмотреться, справиться с метушней «воспоминаний и предприятий», и все же совладать до конца не удается, я засыпаю рано и просыпаюсь среди ночи, и лежу, вымарывая из сознания, выталкивая в черноту все ненужное, злое, городское... И засыпаю под утро, засыпаю в ожидании того, как по запотевшим предрассветным стеклам ударит:
— РибакипідйОм! — Васиным басом, — РибакипідйОм! — и повторится еще раз, призывая меня на рыбу.
И я бегу, доглатывая кефир, вскакиваю в штаны, перепоясанные цветным халатным пояском — сколько раз собирался поменять на нормальный, но уже не сейчас, утренние секунды бесценны, — и вот все: удочки, стульчик, мастырка, червяки, капелюх. По дороге подбираю пару яблок.
А Василь уже ждет, чекає біля велосипеда. І замість ременя у нього мотузка, теж, мабуть, від матусиного халата.
***
Что было до Рачков? Игра «Рыболов» с железноносыми картонными рыбками и палочкой с магнитом на веревке? Или просто палка-веревка-лужа? Нет, была одна рыбка, то есть Рыба, пойманная на настоящую — папину удочку на Десне, под Остром. Я помню и место — под ивою, и берег, крутенький — я боялся упасть в быструю реку, и саму рыбу, большую, блестящую, из чистого серебра…
Рачки научили меня всему: обжимать клыками грузило и откусывать леску, перетирать горох с манкою на мастирку на постном масле, недоваривать картошку и аккуратно вырезать из нее бело-лунные шарики для коропів, подчищая, снимая ножичком еще чуток, еще капочку, бережно и любовно; любить макуху, нюхать опариша, ловить коників для окленя (кузнечиков на голавля); не бояться непогоды, не откладывать, не просыпать, ждать, когда под окнами загудит Васино «РибакипідйОм!», задудит на низких колокольных нотах, и уже кефир застревает в горле, и ты хватаешь все (главное — не забыть червяков) и идешь, торопишься, спешишь, не успевая за ним, роняя то стульчик, то капелюха, то цепляя удочками за ветки; и выбирать место, и обустраивать его, насаживать червяка через рот, а опаришів — обязательно по два; а еще — ловить, когда ветер, отличая поклевки, менять глубину пoплавка, забрасывать за течією и тянуть, тянуть-вытягивать, давая непременно ему или ей хлебнуть воздуха, и не забывать дома подсаку, иначе «о-о!», и перекладывать пойманную лопухом и крапивой, и нести, нести, намеренно утяжеляя — отставляя руку с кульком… И отвечать на риторический вопрос негромко и с достоинством: «Не багато, але є…»
«Эхолот», «глушить», «электрохватка» и «браконьер» — звучит для меня как «союз советских социалистических республик». И это тоже благодаря им.
Меня пытались, и не раз, научить печерувати, то есть ловить руками, бовтати, то есть ходить с ругелею (топтухой), ставить сети и вынимать, выпутывая рыбу и раков, ставить ятеры, не забывая — куда, и доставать их крюком, ловить сома, окленя, коропів, а также щуку и вообще хищника, хоть какого, на гнущийся спиннинг. Они честно пытались, но, увы…
Зато слушать байки, прислухаючись до людей, до річки, — я уже научился сам и даже могу консультировать…
Они — мои соседи, Данилыч и Вася — батько и сын.
***
Наша хата — фасадом на восток и на выгон. Данильчина, как выйти — налево, а Опришкова — направо. Но когда ходили к ним за водой — а у нас до своей так и не дорылись: то бурили не там, а то замуливалась, — говорили: «Сходи-ка за водой до Петрівни», то есть налево, или «Принеси-ка водички од Яківни», то есть направо. Потому как хозяйки там — а у нас кажуть — господині — баби Гані — Ганна Петрівна та Ганна Яківна . И там, и там колодцы, водичка вкусная, безо всякого запаха. Однако же чаще мы ходили все-таки до Петрівни, и детей посылали туда, а не направо, особенно, когда Яківна заходила к нам и сообщала, что Вовчика отпустили и он должен со дня на день вернуться, и не было в ее словах радости, а было тоска и безысходность. И мы тоже вздыхали и крепче запирали на ночь двери, а изнутри у двери ставили кийка или монтировку — ежели «білка нападе» — пригрозить, а если понадобится, то и отбиться. Справедливости ради надо сказать, что до крови у нас, слава богу, ни разу не дошло, но дружбы и соседства не получалось, и хотя все Опришки — и батько и сыновья — тоже рыбалку понимали, за наукой я ходил налево, до Петрівни, то есть, конечно, не к ней, а к ее мужу и сыну.
***
А все началось с того похода з ругелею. И если вы не знаете, что это такое, даже и лучше, я ведь тоже не знал, что и в хоккейные ворота можно ловить, было бы что…
Хату мы достраивали сами. Завезли кирпич, тысяч около восьми. Выгружали всем семейством, замучились: ноги-спина гудят, кожа на ладонях горит, стертая и под рукавицами. А Василь, наш сосед, зашел и помог. И позвал на рыбу, «якщо я хочу, звісно: Михайло з синами з ругелею іде… Бовтати».
Что такое «бовтати», я представлял слабо, и наутро пришел к Васе, как положено рыбаку, с удочками и складным стульчиком, в штормовке, джинсах, резиновых сапогах и широкополой панаме, но Василь сказал, что «вудки зайві, і краще було б якісь непотрібні штані — і на ноги щось зовсім старе, аби не жаліти» . И я натянул спортивные штаны, куцые и подстреленные, из которых вырос еще в школе, с дырками на коленях и штрипками внизу, остроносые модельные штиблеты с выпускного и носовой платок, завязанный на четыре узла. Вася, оглядев меня, сказал:
— О, так краще. Вся риба буде наша.
На пятом часу тяганий «ворот» по протокам, мокрый и грязный по горло, измученный и солнцем, и слепнями, — я возненавидел и проклинал все: и скользкие штиблеты, пудовые от грязи, и платочек с головы, утерянный где-то, и ругелю, и рыбу, которой было так мало в каждой попытке, что мы еле-еле насобирали два мешочка: один с совсем мелкой, а другой — правда, крупнее, но всего, может, килограммов пять — то есть по кило на брата…
Устали все, и старшие, и хлопцы-подростки, но шли, и каждый раз глаза у них загорались, когда из подымаемой ругели уже проглядывало, что там; а когда взяли щучку, грамів на триста, Михайло сказал:
— Хоча б кіла зо два на ніс…
— Так, було б непогано, — підтримав Василь.
И они пошли уверенней, а я прикинул, поделил-помножил — это что ж, еще часа четыре, как минимум? А куда деваться — я ковылял за ними, более всего презирая себя, непривычного ни к кирпичам, ни к полю, ни к чему, кроме расчетов среднечасовой добычи и планов по вылову… О перерыве на обед никто и не думал, я плелся последним, Василь и Михайло несли ругелю, хлопцы бовтали, а мне доверили мешки с рыбой, пополнявшиеся, надо сказать, веселее, и я, переложив оба мешка в левую руку, правой, за отсутствием хвоста, лупил слепней, и шел следом за ними, где по колено в воде, где по пояс, и вдруг заметил, что несу один мешок, второго не было…
С мелкою — вот он, а с крупной — не было… Я оглянулся вокруг и, наверное, что-то такое вскрикнул, ибо восьмеро глаз обернулись на меня, постепенно понимая: в руке у меня только один мешок, и той…
— Впустив?! — выдохнул Вася, и они, бросив ругелю, двинулись восьминого ко мне, но не убили, а пройдя насквозь, стали шарить по дну ногами-руками, и ничего не было, ничего… Они дошли до поворота и повернули, снова взглянув на меня, обратно, и солнце, сверкнув из темной и жирной воды, тоже, мол, как тут найдешь, в этой каламути… Кому ж доверили… Э-э…
Ну что вам сказать? Я стоял… Не знаю, были ли у меня в жизни более позорные моменты? Когда коришь себя, вважаючи за непотріб? Наверное, были. Но тут добавилось что-то еще, будто подвел я не только себя и Васю, и даже не всех «городських», а больше, может быть — Реку? Рыбу?..
Что тут скажешь? Однажды великий Бучма без единого слова целых восемь минут изображал унижение, стыд и боль — и зал плакал вместе с ним. Наверное, и мне, повествуя, следовало бы держать и держать эту позорную паузу, но читатель не виноват.
Короче, Вася меня спас. Нашел. Когда те уже, не глядя на меня, полезли на берег.
— Кажись... — нащупал ногой… и достал, поднял.
С тех пор прошло столько лет, но каждый раз встречая Михайла на реке, а последний раз — уже седого, выплывающего лодкою из тумана, еще до рассвета, еще не видя лица, а только знакомую лодку, я здоровкаюсь неголосно і відчуваю, як в самісіньких куточках під сивими вусами ховає він посмішку, а мені, друзі мої, соромно, все еще неловко, и я, припоминая, покачиваю головой…
***
Если пойти дальше направо, за Опришковой хатой — еще одна, заброшенная, в непролазных кустах, а за ней уже и конец села, и грунтовая раздолбанная дорога, которая через какие-то двести метров поворачивает к шоссе, но перед тем проходит мимо провалля — заросшего оврага или окопа, о котором, как и о крайней хате, рассказывали всякие истории, только поначалу казавшиеся небылицами…
— Була собі дівчина, і звали її Марічка, і був собі парубок, і звали його Прокопій. І покохали вони одне одного. Але ж то було у давні-прадавні кріпацькі часи, і тутешній пан Жирняк, — чи то поляк, чи то турок, — який мешкав у Зухвалівці, повелів схопити їх. — На этих словах Яківна, поджимая губки, делает многозначительные глаза: — Ото так. І побігли вони по людях, по садибах — і волали пустити, сховати, але ніхто, жодний не відчинив, розмірковуючи: «а чого це я?», «а якщо пан взнає, що я…», або ж «Лемедюки йому ближчі», чи то «прибігли тут», чи «не хочу й годі», чи «така, мабуть, доля», або ж мовчки. Ото так… — додає Яківна і завмирає, доки нарешті хтось із слухачів не витримує.
— А що пан? Наздогнав?
— Ні, — відрізає, — ні. Кинулась Марічка у вирву, а Прокопій зник у проваллі. І стали вони водою: струмком, що біжить до річки, і річкою, яка чекає на нього…
— Але ж від провалля до Нарічки нема протоки, — каже хтось із повними сліз очима.
— І не буде, — ні, ні! — вигукує Яківна, — не буде, доки не передохне увесь рід тих, хто молодят не впустив.
— А пан? Йому що? — питає сама справедливість.
— Пан? — Яківна не розуміє. — А до чого тут пан? Поїхав собі додому, до татар чи поляків, яка різниця, — не наш… Хай вони його там і судять, або ж про хоробрість його співають. Пан тут ні до чого…
А вот о том, кто жил в заброшенной хате, что за Опришками по дороге в провалля, никто, ни Яківна, ни Петрівна, ни даже старий Хилько почему-то не помнили, так это было давно. И немудрено: полвека прошло, крыша провалилась, и все, что можно, растащили… Впрочем, не всё. Нет-нет, а в саду или в доме, в траве, кустах или строительном мусоре обнаруживаются вдруг кукольные ножки и ручки. И когда я об этих находках заговариваю, — тут же и Яківна, и Петрівна припоминают старика-кукольника, который якобы живал здесь еще до войны, но откуда пришел и куда пропал — обе разводят руками.
***
Я стою перед ними и смотрю не как обычно — сверху вниз или вровень, а снизу вверх, потому как передо мною велетні — і батько, і син, — смотрю, поднимая глаза, — а передо мною — два дуба или два тополя — кремезні та стрункі, — а еще можно сказать: два телеграфных столба, потому как профессия у них семейная — связисты. Такая профессия, вроде даже и не сельская, и рыба тут как будто бы и не причем…
В начале прошлого века, во времена столыпинской перестройки, двинулись селяне с Киевщины на Дальний Восток, в Приморский край. Там, в рыбхозе, на великом озере Ханка в поселке с названием Камень-Рыболов и родился Данилыч, и там же от местных стариков — корейцев, китайцев, удэгейцев — набирался рыбацкого мастерства и мудрости. В 1939 его призвали, и стали они здесь же на озере на кордоне против японцев. Мирная жизнь кончилась. «Полізли», — каже Данилыч. Однако на рыбу его и еще парочку таких же умельцев начальник по праздникам отряжал — знал, без приварка не будет, порадуют хлопцев чем-нибудь особенным.
— Особенным? — переспрашиваю я, а Данилыч будто и не замечает моей иронии.
— Одного разу взяли калугу — шість пудів без чогось.
Я перевожу взгляд с батька на сына — разводит? Но Вася кивает:
— Так, так… Буває й більша — до тонни, така собі озерно-річкова акула, голова завелика і паща з рідкими, але дуже гострими зубами: і на худобу, і на людину були, казали, випадки.
— Були, — каже батько.
— На удочку?! — я все же не могу поверить… — Сто кило?
— Неси зуб, — командует батько.
И Вася мотается в хату.
— Вот! — зуб размером с мизинец, пусть не их — пусть мой! Правда, не острый — ну, это понятно, не мне ж одному… И я замолкаю, а те, как бы меж собою:
— Та хіба ж тільки… А змієголов?
— А верхогляд?
— А повзун?
— Кто это? — уточняю.
— Той, що дихає і зябрами і повітрям, і впродовж восьми годин може повзти понад берегом, чи то по суші.
— И такое есть?
— Колись з дерева зняв, — замечает Данилыч.
Вечереет. Лавочка, на которой они сидят — у ворот, под вишнею, — выходит на выгон, и оттуда широко видать: и поле орендарське, и строй тополей, и дорогу, и поле за дорогой. Чтобы продолжать смотреть на них снизу вверх, мне приходится сесть перед ними на траву. Но только я, потрясенный, сажусь — вдруг они точно по команде:
— А карась, какой же там карась! — восклицают хором почему-то по-русски.
А мне слышатся французские слова любви, тоже понятные без перевода. Что там экзотика, если таков карась — хлеб насущный.
***
«Небачубляколиклює!» — доносится слитно отку-да-то слева, и вот уже его лодочка, черная просмоленная, маленькая и худющая, как и он сам, показывается из-за поворота. «Небачубляколиклює!» — сообщает он вместо приветствия, а после все-таки снимает кепочку, кивает, здоровкается, и пока лодочка скользит вдоль берега, успевает и расспросить, и посетовать, что и в ятерах «пара пліток, і більш нічого».
— Сколько ж ему лет? — спрашиваю у Васи, когда Хилько уже далече.
— Хм… Слушне запитання. Я ще дитиною був, а його вже звали Старий Хилько…
— Так он кто — дед Михайлин?
— Ні, дід Панас помер, але ж він молодший з братів, а Хилько наче старший за нього, і голодомор пам’ятає, і щось таке про Першу світову розповідав, і про отамана Зеленого.
Сколько ж ему? Девяносто? Сто? Пока я прикидываю, лодочка его уже возвращается, старик гребет с натугой, но живо и как раз напротив, под камышами окунает весло, нащупывает ятер.
— Десь тут… — і справді, підтягує, виймає. — Ну! Нема, два раки, — каже він, — і більш нічого. Візьмеш, Васю, що я з двома робитиму.
— Давай, Бурко подякує.
— Нема за що — хіба ж це раки, — підплива він ближче і перекидає до нас одного, другого. — Ото, як я отаману носив, ото були раки — як корчі, і грошей дали — мало не скатертину, — «наріжеш сам, діду, бери, старий, не бійся…».
— Чув? — питаю я Васю, коли Хилькова пирога зникає.
— Чув.
— И что?
— І батько казав, раки були як ото …
— Та нет же — «Діду!» Его, что, и тогда, в гражданскую, за старика имели?
— Може, й так… Одного разу я спіймав рака — тридцять три сантиметри, як лобстера, чи то — як омара… То було на День молоді — ходили селом, показували, відмітку на руці зробив.
— Тридцять три — з вусами? Чи без? — спрашиваю.
А Василь задирает рукав, показывая еле заметную татуировку, и на живой руке рак кажется еще больше, солиднее.
«Не-бачу-бля-коли-клює!» — доносится издалека.
***
Мне тоже хотелось чем-то их удивить. Но на всякого знакомого мне депутата у Валеры находился свой, еще более осведомленный. И Вася не отстает по части спутникового ТВ, и продавщица Галя завела мерс, пусть не последней модели, но уж точно покруче моего польского «полонеза».
И тогда я привез телескоп. Метровую трубу на тяжелой трехлапой системе наведения, больше похожую на миномет. Привез, разложил основные части, рядом с калиткой выставил по уровню три плоских камня под треногу, собрал вместе с Васей конструкцию и стал ждать ночи. Первым прибыл участковый и убедился в отсутствии миномета, затем налетели комары и начали подтягиваться соседи.
Зашел Хилько, а луна все не являлась. Потом заглянул Валера, он уже знал о телескопе. Прибежали продавщицыны дети, а месяца все еще не было. Наконец, опираясь на палку, показался Данилыч:
— Ну, що, не хоче?
— Нема.
— Поховалась.
— Учора була...
— Нічого, мабуть, треба зачекати.
— А на зірки мона подивитись? — питає Хилько.
А я знаю: на звезды смотреть нечего, неинтересно: в мой телескоп ничего не разглядишь, все друг на друга похожи, как мальки, — та, может быть, чуть розовее, а та — голубее. Что на них смотреть?! Эффекта не будет. И мы ждем.
Первыми забирают детей, потом уходит Валера, прихватив с собою Хилька. А луна, как назло, как сквозь землю...
Кряхтя, ковыляет к себе Данилыч. А ее нет. Мы ждем еще, и вот уже Вася «пропонує допомогу». Новолуние! Как я мог забыть, как?! Понятно, придет и мое время, но почему премьера должна быть непременно с провалом? Что же я за невезучий такой?..
***
К Валере и, правда, приезжают фигуры, личности. Что гетьманa?! Я слышал, даже французский посол...
— Тако. У нього, дійсно, не хфарт — гарантія. Жодного разу не було, щоб не взяли, — поясняет Василь, — або щучку, або окуня, або ж судака.
— «Мабуть, щось знає?!» — повторяю я вслед за Хильком. — Места, или наживку, или что?
— Хто його зна… Хилько колись марив, що він блешні та воблерів у жаб’ячій юшці вимочує, а Льоня казав: ні, у своїй, у власній — тому й не п’є, аби не відлякувати. Але ж Опариші два тижні не пили, і шо? Нічого. Кров не діє.
— А может, крючки? Я слыхал, у него кованые…
— І мені він подарував декілька… Ні, не місця, і не погода, і не принада…
— А! Я знаю! Он ловит на тех, кого привозят. Выходит к реке, зачитывает регалии, мол, депутат, лауреат, академик…
— Ну-ну…
— Я не шучу. Ты ж погляди на его список — олигархи, послы, космонавты.
— Космонавтів не було, брехать нема чого, а депутатів, прокурорів, письменників… Оті двоє з «Кабачка 13 стульев»… Маршал авіації…
— А кто из писателей?
— Ой, багато! У радянські часи і наш славетний, всесвітньо відомий, як же… ну, той, що в Росії здебільшого… «Я, — каже, — всю рыбу Мексиканского залива отдам за это местечко под ивою». А як витягне щуку — одразу всю маленьку, раніше наловлену, рибочку цілує й відпускає: «Плыви, плыви, моя Украина, на волю, — і, озирнувшись навколо, зазвичай додавав: — в свободной стране братских народов…».
— Да… люди известные; а только Валере с той радости что? Плащ-накидка армейская да книжка подписанная, а как жил в землянке, так и живет.
— Ну, чому… хата тепла, а підлога, так, глиняна… Але ж, може, тому і клює, що нічого для себе не просив, — Вася замолкает надолго.
— Кажуть, у казці про золоту рибку — поганий кінець. Як для кого. А для старого, мабуть, кращого й не вигадати. Рибка-таки знала, чого він дійсно бажає, почула його внутрішній голос…
***
Если пойти за Хильком, против течения, речка наша нырнет под мост и завьется по лугу, прячась то в камыши, а то в перелесок, и там, за перелеском, выйдет на широку, чтобы снова уйти за Черный лес. Когда из-за леса вылезала гроза и переваливала оттуда на луг, рыбаки, завидя на небе седую кошлатую полосу, сворачивались, и лодки ускоряли ход, шли спешно, за течією, стараясь успеть хотя бы до моста, и там переждать. Стоя на корме, хлопцы окунали весло низко и гребли сильно, но по-прежнему тихо, не хлюпая, будто боясь, что гроза услышит и пустится в погоню.
Однажды я стоял на мосту, наблюдая черноту и зарницы, подставляя лицо ветру, вслушиваясь и внюхиваясь, и тут из-за поворота показались они — лодки, одна за другой, и фигуры — в длинных плащах. На моих глазах гроза их догнала: мгновенным фото дала паломников в капюшонах и, исхлестав меня на мосту, загнала туда же, под бетонную арку.
История эта — как гроза, то есть не такая уж и небывалая и фантастическая: короп, да, крупный, то есть очень и очень, однако, бывали и такие, что одному и не унести, а тут, хотя и хвост по земле волочился, Данилыч все же донес его, доволок. И полтора часа борьбы, когда тягала его рыба, и никто не уступал… И предыстория: да, сходил с крючка, обрывал, дразнил, привередничал, а Данилыч терпел, обхаживал — и никого на свою яму не пускал, чуял: «Щось буде…». Кажется, обычное дело — рыбак и рыба. Таких баек — хоть пруд пруди. А только одно в той истории было действительно необычайное. Нет, нет, и не гадайте… Зрители! Именно они! Все действо крутилось около моста, причем, в субботу, в полдень, и водил Короп его кругами — то от моста, то под мост, и народ: и наши, и зухваливские, кто сбежался — то сюда, то туда, то налево, то направо, а мост скрипел и кренился, но кто же на то обращал внимание:
— Держи, держи!
— Відпускай!
— Та ні — потроху-потроху…
— Якщо до комишів піде — обірве.
— О!
— О!
— О-о-о …
— Під-са-ку-у… — вже шепотів хтось.
— Підво-одь, та-ак…
— Давай, давай…
Старый мост был хотя и старый, деревянный, но выдерживал и комбайн, и «велике зухвалівське стадо, і танка, бо збудували його ще тоді німці за всіма, як то кажуть, канонами» . И простоял бы еще лет сто, но в то мгновение, когда держало подсаки луснуло, в тот же миг лопнула одна из стропил, и мост вдруг заныл — народ кинулся в стороны, освобождая… В этот незабываемый миг затих и короп, и дал себя вывести на мілке, кто-то подхватил вудку, а Данилыч, «узяв його під зябра і потягнув на берег…»
Новый — бетонный, капитальный, на две машины, — одно время его так и называли: «Даныльчин», а Хилько уважительно — «Соша», — новый мост стоит и сейчас, как памятник. А вот чему? Кому? Рыбе? Рыбаку?.. Ловят с тех пор только мелочь, «бо, побачивши оце на власні очі, хтось, кажуть, з зухвалівських або їхніх родичів, почав виходити з електрохваткою — і риба пішла».
***
Нарічка наша делит луг пополам. Там, за мостом пасут зухваливские. И хотя стадо у них теперь вчетверо меньше, а все же 60 коров, не то что у нас — 5, а что будет на будущий год — один Бог ведает. Честно говоря, меня, отоваривающегося в супермаркетах, проблема увеличения поголовья волновала не шибко. Я и Васе, продавшему корову — бо мати вже не може поратися, тяжко, — сочувствовал по привычке. А всю глубину трагедии осознал, когда Вася, собираясь на рыбу, сообщил, что черв’яків нема, — корова, как выяснилось, давала еще и червяков, расцветавших под досками рядышком с хлевом.
— Може, до Льоні піти? Але я вже ходив, двічі…
Льоню — Катіного — так і звуть: «Катін». Чому? Тому що малий, верткий. Катя йде, жі-і-інка-а — колихається на всі боки, а Льоня, мов, ґедзь, коло неї, з одного боку забіжить, з-з-з, щось таке собі, з іншого, з-з-з… І дивиться на неї. Що вона скаже. А що казати? «Робити треба». Дві корови (дві!), і теля, і чотири свині, гуси-кури-індички. Сад, город, пасіка… «Торік півтори тонни дали на паї, нічого, вистачило худобі і взимку і навесні… А вам молочка не треба? Чи, може, сметанки? І творожок є…»
Зазвичай я беру: свіженьке, смачне, чисте. Баночки блищать. (Але ж я прийшов зараз не за цим. Я прийшов за черв’яками…) Катя виносить, протирає…
— З баночками, — Льоня підраховує, додаючи до ціни, — буде ото… — рахує. — А меду мало… — каже він. — Я ж цукром не годую, — каже він неголосно, коли Катя зникає в коморі, — і жде, щоб я спитав про ціну, і він тоді назве ту, що просять на базарі в Шануйлівці, «а менше — і не підходь».
Я мовчу. Мені черв’яків треба. А мед — то не той мед. Не дуже… А черв’яки у Каті такі, сам бодай би облизнув, а живі-живенькі — геть насадити не мона! Але ж він черв’яків не продає. Може, — дасть, чи скаже, примружившись на сонце: «Сухе, посохло все, поховались. Нема. Я і сам ото мастирку зара…».
Я мовчу.
— А баночки, якщо не треба, потім віддасте, ви ж знаєте, — каже він, — скільки вони зара…
Про мед я не питаю. Торік взяв, не дере, цукру забагато.
— Баночки принесу завтра, — говорю.
А Льоня уже щурится на солнце. Не, сейчас про червяков никак.
— А как бизнес? — спрашиваю. — Бегает? — киваю в сторону бортового грузовичка, полуторки, что стоит у ворот.
— Якби не бензин, ви ж знаєте, скільки зара… — начинает он, а я знаю, что дело не в бензине, а в том, что и тут хотелось ему, как у нас говорят, за двумя зайцами, и там и кругом. Поначалу ведь подряжали его и на базар, и на каеспе, работа была, а ему мало, покойников стал возить на кладбище, похороны обслуживать, — и базар как отрезало, не то что мясо или молоко — мешки с картошкой не подряжают. «Тому що мерці. Не та компанія. Імідж, — говорят, — не той». Або ж сусідка (а хто ще?) — Галька Темна — вона, гадюка, розпустила по селу: «Оно, чули, Нечипоренкова невістка відвезла городину — і ось тобі. Тобто не той транспорт у Льоні — в один бік везе». І сама Катя, нарешті, збираючись на базар, почала звертатися до родичів.
— Ні, нема бізнесу. — щуриться Льоня. — Мерців мало…
И я понимаю, чувствую, спрошу сейчас про червяков, а он: «Ні, дощі, усіх позмивало, нема. Може, завтра…».
Но тут появляется из погреба Катя.
— Сметанка! Вам скільки?
И она, однако, тоже про червяков молчит, хотя вот — баночка у меня в руках не для сметанки, и ей и ему хорошо видно — для червей.
— Так меду не треба? — питає Льоня.
Деваться некуда. В конце-концов покупатель всегда прав.
— А нет ли у вас… — спрашиваю, — мне б с десяток. Или два…
— Яєць? Є! — радісно вигукують дуетом. — Скільки?
— Може, — отвечаю солидно, — і два десятки… А може, і три... А чи є у вас черв’яки?
***
«Наш каеспе хворів довго, а помер за один день. Хтось прийшов, сів на трактора і погнав його на Шануйлівку. Там він і зник. Тоді голова КСП подзвонив до райради:
— Трактора вкрали!
А йому відповіли начебто так:
— Тобі що, більше всіх треба?
— Так люди ж бачили...
— А ти скажи, нехай і люди беруть. Беріть, поки геть усе не розікрали.
Через дві години на подвір’ї каеспе вже нічого не було. І голова повеселішав — народ у нас спритний, та й кінці у воду! Еге, якби ж так само з паями, з землею. Але ж Шануйлівка мовчить, бо і в райраді розуміють: люди за землю, за свою, за розпайовану, якщо не на вила піднімуть, то листами всі прокуратури закидають. Не час… Але час прийде, як прийшов хазяїн і до хферми, і до кар’єру, і до ставків.
А Нарічка наша безхозна, як і народ».
***
«Любіть Україну»… Этот транспарант над дорогой я проезжаю 12 раз: 3 раза, пока выбираюсь из Киева, еще 3 — по дороге от Киева до Великих Цебек, 2 раза в самих Цебеках, 2 — до Шануйливки, и там еще один возле райрады. Наверное, это полезно: проехал, прочел, согласился, полюбил. И поехал дальше. В Рачках — и в селе, и на подъезде — транспарантов уже нет. И в Зухваливке я тоже не видел, хотя что-то такое в плане агитации должно было бы появиться.
Не знаю… 12 раз мне напоминают о родине, о моем долге и положенном чувстве, а оно уже с первого раза аппетита у меня не вызывает. И с каждым последующим раздражение растет, впрочем, вяло и без эмоций, и какой-либо инициативы. Появись они с началом войны, я бы воспринимал иначе, патриотичней. Но вывесили их еще при нашем президенте красивом и титульном, отчего лозунг этот обрел характерный привкус болтовни и бездеятельности, а когда попал в арсенал следующего презика — тут уже «любіть» заиграло всеми красками и стонами криминальной камасутры, где «стырить», «наклонить», «отжать» и «закатать» — уже не грех, а система власти ради себя готова на все, и на «расчленение родины» в том числе…
Если внимательно подсчитать количество транспарантов по дороге в Рачки, то у вас выйдет не 12, а 13. Последний уже запечатлен в мозгу всеми тринадцатью литерами и отсутствием какого-либо знака в конце. Видимо, автор идеи транспарантной любви хотел подчеркнуть не понуждение к акту, а полезную информацию, по примеру дорожных знаков, скажем: «неровная дорога», «осторожно, летят камни», «грунтовая».
И верно — по мере приближения к Рачкам дороги все хуже; беднее и народ, и пропаганда. А чего транжирить? И так все ясно. Дальше ехать некуда, дальше — «тупик». Как говорится — «приехали»… Но вот, что я заметил — несмотря на отсутствие призывов, последние километры грунтовки щемят и трогают душу, и уже выглядываешь, не появилась ли крыша, крытая темновишневым шифером-ондулином, и розоватый фасад, розовый, а не біленький («Рожевий, як у корівнику», — кажуть сусіди), и купы цветов над едкой зеленью штакетника, калитки и проржавевших ворот. И красавцы-лебеди, двоє біленьких на голубенькому, на соседских воротах у Яківни.
***
Братів Опришків — близнюків Вовчика та Валіка — поза очі, а бувало і в очі звали опаришами, тому що скрізь поруч, цвай-пара, неразлей вода — казалось, если одного насадят на крючок — то второй полезет сам, следом. Брати…
Та які ж різні! И внешне — даже кость разная, — а уж по характеру — бунт и тишь, мордобой и покорность.
— Двійня, — казала мати, баба Ганя, — то божа кара. І носити тяжко, а як б’ються — страшне!
Вовчик бил — Валик убегал, отбивался. Но не дай боже, кто тронет Валика — Вовчик тут как тут, за брата голову готов оторвать, но по справедливости, и так кругом — в армии, в бригаде, когда на Севере шабашили.
Ну и пить начали вместе, а как же, отец пил 17 лет, гонял их — и ремнем, и дручком, рука у Степана была тяжелая. Але ж настав час, і вони йому віддячили, да так, что и мать бросилась спасать батька, и Валик уже хватал за руки Вовчика, а тот подскакивал и лупасил.
И пили они по-разному, як то кажуть — за характером. Валик тихо, а Вовчик — запойно, до «белки». Схватить топор, вилы, кинуться с ножом или бутылкой и ничего потом не помнить, плакать, просить, клясться — «я всі гріхи беру на себе!» — а там и наряд, и вытрезвитель, и принудительное лечение в Глевахе…
Батька частично парализовало, и он уже не мог залезть на чердак, пересидеть в сарае, Валик боялся, убегал, и бабе Гане приходилось вызывать наряд — тут уж доставалось и ей, и прятала от соседей побои, оглохла на одно ухо. Но маму Вовчик все-таки жалел, жалел и отца, и брата — но жалел після того, як ледь не вбив , просил простить. И его прощали. «То не він, то клята «білка», щоб їй…» — зітхала Ганя, і Степан за нею: «Що поробиш — не всім Бог дав таке тихе пияцтво, як Валіку…».
Временами — между запоями — бывали и хорошие дни, когда всей семьей косили или собирали яблоки, и Ганя, надев нарядное, заходила до сусідів, весела, радісна, і розповідала, як любили діточки одне одного, про які таланти казала їй вчителька та як батько привчав хлопців до риби…
Опришкове місце — коло моста: з човна, або ж з сідала в очереті. Пливешь зранку — сидять. У кожного по чотири, п’ять, шість вудок — батько навчив. Сидять — пильнують. Тихо…
А потом все возвращалось. С ночными криками, окровавленной косой, мордобоем… И забыли на селе, что был когда-то Вовчик шофером, а Валик — механиком, подряжали, как бомжей: самогонку нальют — ото тобі і платня…
Как-то приехал к ним орендар, свой же, одноклассник, позвал идти к нему — обоих. Валик обрадовался, закивал, а Вовчик набычился:
— Ти хто такий, що нас прийшов наймати?! Ти ж такий, як я! — И выгнал того, и Валика не пустил…
Валик еще ходил по людям, наймитував, Валика еще изредка подряжали, а Вовчику — «хворому на всю голову» — кругом от ворот поворот. А той прокльони та матюки гне, «я всі гріхи беру на себе», — погрожує. Бо ж горить усе, треба хоть щось: бражки, корвалолу… А тоді — раз вкрав, другий, відлупцювали, човника вкрав, відігнав, продав, знов відлупцювали, живого місця не було. И снова Глеваха…
Ни семьи, ни работы, одно оставалось — рыба. Одна отдушина, одно пристанище… Валик, помню, идет, возвращается огородами, а за ним коты — в колонну, хвосты, как удочки — вверх. Хоть и мелочь, а поделится.
А Вовчик… И ее пропил — глушил, бил электрохваткою…
«Бодай втопився б, чи що…» — казали на селі. А його нічого не брало, пив усе, сцяв криваво, а останнього разу, замерзлого, його врятував Валік, відтер спиртом, відігрів.
Братові Вовчик віддячив сповна; місяц по тому вдарив він Валіка пляшкою по голові. Голова розпухла, але братуха до лікарні не пішов, заслаб і лежав, знепритомнівши, вдома. А мертвого знайшли, залитого юшкою. Вовчик боживсь, що хотів брата поголити, але був напідпитку, може, і порізав трохи…
Відсидів. Прийшов. Напився. Бачили його на цвинтарі — на опришковому місці. «Я всі гріхи беру на се…» Знайшли мертвого біля річки… Лежить тепер поряд із братом.
***
«А без чая я скучаю! — говорит мне Петрович, говорит с такой сладчайшею улыбкой, с ласковой такой интонацией, что и при первой встрече, и во все последующие я каждый раз преодолеваю эту приторность, я тружусь, осаждая недоверие и неприятие, потому что знаю — весь он, без фальши, без маски, таков он, удивительный человек, и есть на самом деле — добрый, добрейший, и елей его природный, к тому же верою и взлелеянный. И он, и сестра его, Петрівна, Васина мама, — люди верующие, воцерковленные. И если меня спросить, какая это церковь, что за конфессия, я отвечу — правильная, хорошая, раз в ней такие, как Петрівна и Петрович, и пусть христиане думают о своей, мусульмане о своей, буддисты о своей и все иные — о своих, потому что «все руки, простертые к небу, это чудесные руки».
Не знаю, все ли в этой церкви таковы, но те, кто приезжают к старикам, всячески помогая и словом и делом, — правильные, и лица их просветленные, радушные, и песни, которые поют за общим столом… Петрівна угощает пирогами с вишнями, с маком, с яблоками, с творогом… А приходит вечер, и прощаются, благословляя друг друга и дом, и соседей, и мир вокруг.
— А без чая я скучаю! Завари скорее чаю! — растекается в улыбке Петрович и, прихлебывая свой, особенный, травяной, приглашает меня в лес, за травами.
— С утра не могу — мы ж с Васей на рыбе.
А он и не против, значит, после обеда, как отоспимся.
И вот мы в лесу. На каждую травку, на каждый цветок есть у него прибаутка или история, все найденные разглядывает он с благоговением, поясняя мне для чего, от каких хвороб, как и когда собирать, как сушить, сохранять, заваривать, настаивать.
Вот мы присели у высокого стебелька валерианы, и Петрович указывает мне на меленькие розоватые цветочки. Глазки у него сузились, казалось, еще немного и замурлычет, но вместо этого, словно елей, потекли слова:
— Нет-нет, сейчас не время… Выкапывать прийду в конце сентября…
И говорил о них, о травках своих разлюбезных, с восторгом и благодарностью. И засыпал меня стишами и байками.
— А есть ли у вас, — спрашиваю, — что-то на рыбную, рыболовную тему?
— Конечно!
Рыбка, рыбка золотая,
Неуловленная мной,
Не ловись, бо я не знаю,
Что же делать мне с тобой.
— Ловить не могу — жалко. Тут цветик, а все равно каждый раз прощения прошу, когда срываю. А рыбка-то — ой живая, живая… А просить, — улыбается он смиренно, — просить ее мне не о чем.
***
Сатурн вылез из-за тополя на шоссе за полем — я почему-то был уверен, что это именно он, — вылез далекой золотистой звездочкой, и я бросился наводить телескоп и уже при малом увеличении, понял — он! Потому что и кольцо окружало его пологим эллипсом, тоже золотое, как и золотая планета, золотой шарик внутри.
— Вась, Василю, дивись!
И мы принялись менять окуляры, наводить, крутя винты, и при самом большом увеличении гигант задрожал, то расплываясь, а то фокусируясь, точно удаляясь и приближаясь, и движимый по черному фону, в чернильной глубине космоса, в очередной раз пошел, пересекая центр, уходя из поля зрения. Не отрываясь от окуляра, Василь выдохнул:
— Пливе... Пливе... — повторил он негромко, пошепки, наче на рибі, начебто побоюючись, аби хтось там не почув.
***
Яківна знает и не такое. Вот, к примеру, про Галину Темну, нет, не продавщицу, то ее внучка, и не про секретарку сельрады, а про старуху, которая сгорела в собственной хате — сама себя подпалила, а когда горела, выйти из хаты боялась, боялась чего-то или кого-то больше, кричала, а когда ее выносили, безумная стала, «мозок манкою взявся». Да, именно так — «Мозок манкою взявся», — делала многозначительные глаза Яківна, и для пущей достоверности добавляла: «Ото так».
Она, Галька, до самой старости рыбачила, одна жінка на все Рачки. И лодку свою имела, и места, ею самой оборудованные и прикормленные, и туда никто не посягал, местные понятно — черноглазая она была, не дай боже, что пожелает. Но почему не ловили на тех местах и пришлые, заезжие? Или слава ее бежала впереди, или же чуяли люди что-то не то, нехорошее, когда ронял кто-то: «Нє, то Темної яма, хай вона горить...».
Вот и сгорела, угорела то есть. И хату успели потушить, и ее вынесли, полуживую, откачали. Не от огня беда, говорили, — а будто бы кто-то подпер дверь снаружи, кто-то из тех, кому она, ведьма старая, «сделала», порчу навела, сглазила, околдовала. Зло, оно всегда вернется, и к ней вернулось, так Яківна казала, тем хлопчиком-побирушкой, которого в Голодомор подманила:
«Іди, йди, не бійся, рибки щойно наловила, хочеш, дитинко?».
И заманила, удавила, разрубала, юшкою детей своих откормила, спасла от голодной смерти...
Кто знает правду? А никто.
А хлопчик тот, значит, остался, не пропал, а ждал своего часа и дождался.
***
Коли прийшли комуняки і знущалися над Богом, і зруйнували церкву — люди забули, начебто всі забули про Бога, а про рибу — ні. І стала риба ближче до душі, а душа — ближче до річки, до туману зрання і зорепаду ввечері, коли вже сонце пішло, і тихо, тихо-тихесенько іде вона водою, лине, як наспів, моя пірога, щоб не побачив ніхто, а більш за все рибінспектор, а ще більш — сусіди — де і коли поставлю ятери та сітку — бо вкрадуть! Завтра, вранці, до роботи попливу сюди знов, і серце тремтітиме, і вийму її — як помолюся. А потім швиденько, швиденько назад, заховатись, заховати геть усе, і сітку, і весло. Ні, не від чужих — від своїх, але все ж таки піти селом, з мішечком, з торбиною, пішки біля велосипеду, щоб скрізь гукали: «Ну-у, Василю, як воно-о?» — «Не бага-ато, але є-є…»
— Крадуть, — каже Василь, — але…
І я теж розумію — крадіжкою називати… якось не те…. А може, і треба… Сітку вийняв? Рибу зняв? Додому потеренив? Сушитися повісив? Там, за хатою, де з дороги не видно.
— Еге… У нас сховаєш… — каже Василь.
— І що?
— Пішов до нього. «Ну, здрастуй, — кажу, — куме…»
А йому — соромно. Очі ховає. «Хіба ж я крадій, Васю? Вчора пішов по ятери, і вона якось зачепилася…» «Для чого ж ти її взяв? — питаю. — А риба була?» — «Та яка зара риба, мало, дві плітки та-а…» — «Ну-у?» — «…Щучка заплуталась…» — «Чи, може, — щука?» — «Та-а…» — «Показуй». — «Та-а...» — «Показуй, бо вб’ю…»
Треба показувать.
Щука лежить в окремій балії. І виблискує, наче шабля.
— Хороша…
— Торік Валєра таку саму взяв на широкій.
— Ні, меншу…
Вони стоять, любуються…
— Мішка давай. Сітку — як буде темно — занесеш.
А що — треба віддавати.
***
«Не наш», — кажуть про нього. А хіба не тому, що не краде? Тобто, звиняйте, не бере. Ні там, на рибі, ані тут. Ні сіна, ані добрив. Люди кажуть: «Так йому ж не треба». А коли каеспе розібрали, він що собі взяв? Вивіску «КСП «Перемога» с. Рачки Шануйлівського р-ну». «На воротях, — обіцяв, — прицвяхую. Щоб усі бачили, які ми дурні».
Звісно — «не наш». Але ж ніхто Валєрі цього ані в очі, ані поза очі не казав, може, тому, що Лемедюків у нас майже чверть села, а, може, тому, що прапора нашого, житонебесного, раніше, ніж у Шануйлівці чи Великих Цебеках, тобто ще в 1990 над сільрадою повісив і попередив, що «якщо щось, не буде в того ані сіток, ані ятерів, ані човна». І люди повірили: хто зна, що там у нього під скронею, майна не має, не п’є. І прапора дійсно ніхто не чіпав, але ж час минає, і десь незадовго до Ющенка, до першого Майдану, «вертаюсь, — каже Валєра, — з роботи, йду повз сільраду, а тут Рая, секретарка, виходить на поріг, і прапора нашого, дворадісного, витрушує, ретельно так, і вертається в контору. Що ж то за свято має бути? — міркую. — Піду, думаю, спитаю. І от я заходжу до сільради, а там, люди добрі, там сидить наша голова, моя сучка-племінниця, а Райка їй волосся підстригає, а прапор наш, бідолашний, мають за пелерину перукарську... Еге ж, добре що оті вила, що взяв я тоді, біля приступку і полишив. Одного разу тільки вдарив по чомусь, не пам’ятаю, чи то по столу, чи по сейфу, так вони обидві й підстрибнули, пацючки, — і геть з хати.
Ні, тоді я нікому про це не розповів. А після Майдану вже і сенсу не було. До кого-до кого, а до прапора повагу мають, аби ж отак і до людей».
***
— Віддайте голоси за нашу партію — і буде газ.
— Ні, — відповів голова, — не віддадуть, треба щось зробити.
Привезли труби. Поклали біля хат.
Ніхто не повірив. Проголосували мовчки.
— А де ж труби? — питає Хилько. — Вранці йшов на рибу — були. Вертаюсь — нема.
Приїхали, труби позбирали, поїхали. Теж мовчки.
— Віддайте голоси за нашу партію — і буде газ. Слово честі.
— Ні, — відповів голова, — не віддадуть, треба щось зробити.
Привезли труби, поклали біля хат.
— Ні, це вже було.
— Скажіть, щоб копали траншеї.
Ніхто не повірив. Але викопали. Проголосували мовчки.
Приїхали, труби позбирали, поїхали. Теж мовчки. І Хилько вже не питав.
— Вони вам брехали про газ. Ми кажемо відповідально — газу не буде. Дамо по мішку цукру. Слава Україні!
— Ні, — відповів голова, — не віддадуть, треба дати.
— Може, якось після?
— Ні, — відповів голова, — везіть.
Покидали по півмішка біля кожної хати.
— Люди! Голосуйте! Бо відберуть.
Взяли, занесли. Хто бджіл годував. Хто на компоти та варення. Хто у Надійки зміняв на горілку. Хто заховав. Проголосували мовчки.
А цукор вже не відбереш!
***
И клюет — хорошо, а не клюет — лучше. Замечаешь больше. Это только мнится, что замерло все до рассвета. Это с круч каких-нибудь днепровских воды его будто бы недвижны. А вблизи речка, Наричка наша, как говорится, живее всех живых, и все вокруг оживляет. Малек суетится, крупняк ляпает. Стрекоза зависает, водомер скользит. Сижу в очерете на Васином месте, а он — напротив, на лодке, у того берега. Заходит туман — и его почти не видно, только силуэт. Далеко, кажись. А уйдет туман, очистится все — и поплавки наши гусиные чуть ли не рядом. Белеют, малозаметные в тумане, — мы же не красим, у нас никто поплавки не красит, и пластмассу покупную не понимает, и удилища у Данилыча и у Васи, и у Опрышкив, и у Хилька даже не бамбуковые. «В руці — окорешок з берези, він має бути міцний, — підказує Данилич, — а на нього мідна або алюмінієва трубка, в яку встромлюємо кінчик з ліщини; ліщина і гнеться краще, ніж бамбук, і рибу не відлякує» . То есть все наше, натуральное, приречное. Кажется, забудешь такую на зиму, а она и корни пустит, и зацветет… Сижу, мечтаю…
И тут из-под берега, из очерета выходит меховая шапка, только не мужская, а женская, круглая — рыжеватый шар с мордочкой — ондатра! И неспешно она ковыляет ко мне, садится рядом и смотрит на воду, на поплавки. Раскладной стульчик у меня невысокий, ножки наполовину ушли в землю. Я протягиваю руку и почему-то не боюсь, хотя рядом — крыса, пусть рыжая, водяная, но крыса. Осторожно касаюсь ее головки и почесываю, точно кошку, — затылок и за ушками. Существо сидит тихо, наверное, моя ласка ей по душе. Я замер, я счастлив. Мне хочется позвать кого-нибудь, обратить внимание. Но боюсь — спугну, а Вася — со своей лодки напротив — уже присматривается.
— А-а… То Валєрчина подруга, він підгодовує… Яблука нема? То для неї принада. Дуже полюбляє.
— Є! — и я достаю, пододвигаю ближе к мордочке, но она… будто не чует; глазки прижмурены — точно кошка, только не урчит.
«Вот интересно, — думаю, — сначала к Валере пришла, теперь ко мне. С чего бы это?»
— Валєра казав, вся ондатра у нас — з Карелії, з Соловецьких островів. Начебто ще до війни, коли будували перші гулаги, завезли на Соловки також і ондатру з Канади, раніш її не було. То був експеримент, але вдалий — взагалі-то місця суворі, а для неї саме те, що треба. Зеки розплідник збудували — «Пушхоз». Умови шикарні — великі клітки, прибирання, ліки, вітаміни, триразове годування. Тим паче спочатку їх не вбивали — розмножували.
Ну, тогда понятно. Это у нее шок на доброту: думала, один такой — Валера, а тут еще один приблудился.
— Десь читав: тварини мають вельми розвинуту родову пам’ять. Тобто значно кращу, ніж у людей. А в «Пушхозі» справді живи собі, розмножуйся — хіба не рай…
— Кому рай, а кому…
— Отож бо й воно… І Валєра міг би розповісти, але не хоче — його батько був там, на зоні, чи то працював… О, дивись — у тебе кльов був. Пильнуй, — указывает Вася.
Шапочка снова ожила и, ковыляя, исчезает в очерете. А яблоко так и лежит нетронутое.
***
Не-ет, рыбалка — не охота. И дело тут не в количестве крови, хотя и в этом тоже. С охотой все понятно — выследил, пристрелил. А рыба отделена, сокрыта в иной стихии, и ловля ее — надежда на случай, ловля рыбы «есть поиск удачи в параллельном мире».
На охоте я был лишь однажды. Те, что перепили вчера, встали на номера, а новички, и я в том числе, пошли, утопая в снегу, загоняя лисицу. Я не знал, что она уже ранена, и топал следом, и когда над моей головой засвистели пули и кто-то завопил: «Ложись, мля!», — я упал в снег, мгновенно, лицом в снег, и было слышно, как дурака, открывшего огонь из своей хваленой «тулки», почем свет «крестили» и загонщики, и егеря, и вся прочая шарага. А только поднялся, ко мне с криком бросился кто-то:
— Вы ранены? Ранены!
Я не понимал о чем речь, но перехватив взгляд его, почувствовал что-то липкое на лице, и только потом увидел пятна на снегу, пятна крови и рядом следы зверька.
— Нет, кажется, нет… Это не моя…
Кровь смывается плохо, и хотя я не стрелял, искренне мечтаю о том часе, когда оружейные заводы станут известны своими удочками и спиннингами, и я скажу бывшим охотникам: «Здравствуйте, братья-рыбаки!»
***
— Хтось казав, що риби не розмовляють. Не знаю, може й я бозна з ким теж не хотів би розмовляти. А для когось і німці — німі, тому що «не мнять по-нашому», — закидає Валєра, но Вася молчит, и я понимаю — это підкормка. Для меня. Какая же будет наживка?
— А что, были случаи побеседовать? — говорю, ожидая, что сейчас он начнет, затянет свою Калерию.
— А ти зажди, ти прислухайся, — шепчет Валера, — чуєш?!
Я слушаю: где-то ухнула птица, там зашумел под ветром камыш, а вот лебеди подошли с выводком и набросились на ряску. Топчут, хлопают клювами, наминают. И вдруг:
— П-а… П-а-п-а… П-а…
— Чуєш?
— Капли капают? — А сам понимаю — неоткуда. Сушь, засуха. А может, все-таки — дождь?
— Було б непогано.
— Нагадує морзянку… — это Валера. — Тільки таку собі — неквапливу, повільну. А, Васю?
— Може, й так.
— А що, батько не перекладав?
Вася молчит. И я молчу. Рыбы — это ж не дельфины, какое Морзе, чушь, галиматья!..
Тогда, в начале декабря 1941-го, их выстроили у эшелона перед отправкой на Москву:
— Кто знает азбуку Морзе, пять шагов вперед!
Данилыч вышел — ходил в школе на радиокружок. И оставили здесь, отправили в учебку. Из тех, кого увез эшелон, не вернулся никто.
***
— Зухвалівські вважають, що вони — коропи, а ми, рачківські, — рачки, не раки, а таке собі — дрібнота, лайно... А шануйлівські так само: «Ми! Ми!» А великоцебешні — і про шануйлівських кажуть: «пусте». «Ми — короп’яги, ми!» А у Києві?! І не підходь…
У-у! Коропили! Олігархи!
— Хто ж таке каже?
— Вовчик, — Вася киває на Опришків.
— Мабуть, у Глевасі навчили. Прийшов?
— Учора…
Мы сидим под вишнею на закате. Солнце только зашло. Небеса пепелеют, темнеют, и луна — полная, набирает силу. Данилыч подчищает ножичком картофельный шарик. Петрович попивает чаек.
— Думаю, я знаю, почему коропы берут на отакие шарики, — заявляет он.
(Карпа я еще не ловил… А если б вы видели, как нежно обрабатывает для них шарики Данилыч: нежно, любовно, снимая, казалось бы, совершенно незаметную стружечку, доводя до идеального размера и округлости, осторожно укладывая в пакетик. Данилыч — спец, мастер-коропятник. Он-то наверняка что-то знает, и ему, думаю, любопытно. Но замечаю, как Вася выжидательно глянул на батька, а Данилыч словно и не слышит: или у него своих версий довольно, или что? И Вася молчит, и я дожидаюсь.)
— Думаю, все дело в ней, — отхлебнув из чашки, замечает Петрович, глядя при этом поверх наших голов. — Короп — рыба особая, королевская, лишь бы на что не идет, а луна — когда полная — кажется ему вот таким шариком…
Данилыч, подняв глаза от работы, и, прижмурившись, протянул наживку до Луны, бережно удерживая большим и указательным пальцами. Шарик совпал с диском почти идеально. Сравнили и мы.
— Тобто… — начал было Вася.
— То есть, — заговорил и я.
Но Данилыч откашлялся и, пряча шарик в прозрачный пакетик, заметил:
— Розмір ще нічого не доводить. А смак? Вам скажу, але прошу про то не того… Кажуть, треба недоварювати… А мені більше смакує смажена, то я недожарюю… Короп краще бере саме на таку. Тобто — до кого він ближче — до місяця чи до людей?
— Мабуть, десь посередині, — Валера подходит к нам, интересуется « про що дискусія».
Мы поясняем и просим Данилыча достать шарик для сравнения. И Валера тоже, прижмурившись, производит картофельное затмение; а возвращая Данилычу, сообщает, що одного разу в Карелії вийняв дикого коропа — сазана-лунатика. Так його звуть, тому що він взагалі-то дуже вибагливий і обережний, полюбляє ями та затишок, — а при повному місяці йде чомусь до берега і бере все — і хлібний м’якуш, і черв’яків, і ракову шийку. А ловлять його в такий спосіб — закидають тако, щоб поплавок став у центрі місячного «зайця», тоді і поплавка добре розгледіти можна, і сиди собі хоча б і всю ніч…
Данилыч слушает, но молчит, не комментирует.
— Aле ж у нас, звісно, інше, я коропа не ловлю… Тут і без мене коропціонерів вистачає, — зауважує Валєра з наголосом на «коропціонера», — і всі сміються, і Данилич теж посмішки не ховає…
***
Валера рассказывал, что однажды ночевал в той — ведьминой хате. Наловил рыбки и пришел обменять на горилку.
— Я тоді ще пиячив. Приходжу, а вона і наливає свіженької на пробу. Хильнув, — і взяло тако, спати аж страшне закортіло, а тут до мішка з рибою котяра — великий такий, і я його ногою — геть! Пішов! Стусонув. Зойкнув котяра, а Галина мені і каже: «Ой-йой, навіщо ж ти йому тако, ой не треба було...» А я вже засинаю. Так біля груби і впав. А стара кинула мені якусь ковдру та пішла.
Валера закуривает и продолжает.
— Впав, але не сплю, очі заплющив, а щось мені каже — ні, не спи. І ось всі в хаті поснули, а я ні, наче хтось мені підказав, не знаю, але виліз я з-під ковдри і отако поклав туди мої резиняки і мого плаща рибальського, нібито я там, з головою, а сам на піч заліз і дивлюся.
Мы сидим у нас во дворе. Якивна и Хилько, Данилыч и продавщицыны дети. Сидим, наглядевшись в телескоп и на косой глаз Сатурна, и на спутники гиганта Юпитера, и на лунные пейзажи, и на окна Гальчиної хати — хто там нині живе?
— Так от, заліз я на піч і пильную, дивлюсь. Коли місяць, ото як зараз, зазирнув у вікно — і тієї ж миті два зелені вогники блимнули на порозі, і як кинеться, як стрибне й отако кігтями мені — тобто не мені, а тому опудалу під ковдрою — всіма чотирма лапами — Міа-а-а! — розірвав мені капюшона — Міа-а-а! — а там зусь, нема!
— І шо? — питає Хилько.
— А шо?! Брик, і помер.
— Хто? — знов питає Хилько.
— Котяра.
— Кіт? — перепитує Данилич.
— Кіт, — підтверджує Валєра.
Весь народ замолкает. И не только продавщицыны дети оглядываются по сторонам, и кажется, будто тьма приблизилась к нам вплотную, прильнула к нашим спинам. И потянуло сыростью из провалля, из кустов у забора, из черноты малозвездного неба и темных окон заброшенного полусгоревшего дома.
— Ото так! — хитає головою Яківна.
И над всем миром — и над нами — нависает темная шевелюра Гоголя, которому ни один телескоп не конкурент.
***
На кладбище у нас две доски с фамилиями. На первой 47 фамилий, и не все с именами-отчествами, а на второй — 147, и тоже, где без даты рождения, а у кого и дата смерти — только год — 1932. Одна — возле «Солдата-Победителя» на центральной аллее, а вторая — у ограды с бокового входа. Полковник, тот что агитирует за СССР, раз в два года подкрашивает серебрянкой «Солдата-Победителя», «а орендар, той,що гриби вирощує, дає на благоустрій: огорожу, доріжки; поновили меморіальний зал; за цвинтарем у нас доглядають» .
Зачем я прихожу сюда? Прихожу с первого дня, как стали жить, строиться. Теперь понятно: и Данилыч здесь, и почти все Опрышки. А ведь раньше не было никого, а меня все равно тянуло — походить в тиши между рядами, вглядеться в фото, а если нет — в даты, за которыми весь ХХ век.
— Тут все село лежало б, — казав Хилько, — якби не риба та ліс. У першу чергу — риба, раки, мушлі… Нарічка врятувала.
Есть, говорят, в Питере памятник Блокадной Колюшке и Бычку-Кормильцу — в Бердянске. Может, и правильно. А послушаешь старого Хилька и понимаешь, что не нужно нашему Голодомору никакого монумента: и Наричка пока еще жива, и лес пока еще чернеет. Живым монументы не ставят. Память — да. Вот она: 147 — жертвы режима, 47 — павшие на войне, этим же режимом развязанной. Товарищ полковник, куда зовешь?
***
— На кар’єрі, — казав Хилько, — Микола у четвер товстолоба взяв на вудку. Непоганого.
И мы пошли на карьер. Пошли, честно говоря, без особого доверия и надежды, потому как давно уже ничего хорошего о нем не слыхали. С тех пор как в пяти метрах от озера, на кромке гранитного утеса якась сука позливала добрива чи гербіциди , рыба брать отказалась. А раньше, бывало, и карасика, и плотву…
— Колись три товстолоба взяли — однакові, по дев’ять з половиною кіло. І в’юни були… Батько під горою окленя колись вийняв на п’явку, непоганого… — Вася секунду не знает как сказать — руки на руле велосипеда, — и показывая на руль, добавляет: — ні, трохи менший.
Дорога наша идет вдоль леса; направо — заливной луг и Нарічка, а за ней, на пригорке — Зухвалівка. Идем налегке, всего по одной удочке, и ни стульчиков, ни подсак, ни плащ-накидок на случай дождя — что называется « трохи покидати, придивитись ». И собачку я взял с собой по той же причине — идем ненадолго, можно сказать — на разведку. Люка мы привозим нечасто, и он трусит следом, поглядывая то направо, на рогатых чудищ, пасущихся на лугу, а то на Черный лес, налево, где живут вoроны. Вoроны, с ударением на первый слог, в отличие от ворoн, и дали лесу его название, а не окопы, которых здесь не больше, чем везде, и не асфальтовый завод, загадивший округу пролитыми битумом и смолой.
Данилыч рассказывал, как однажды из речного тумана выплыла ведьма, перелетающая в сторону леса, и в руке у нее была клюка, кривая палка. Он вскрикнул — и в ту же секунду старуха оборатилась в ворона, несущего в когтях гадюку. « Так, саме гадюку, бо жовтих плям на голові не було… і миттєво зникла у лісі… »
— Хтозна? — говорит Вася. — Я нічого подібного не бачив… Але ж і батько непитущий, якби то був Вовчик або Валік…
— Я слышал — это кара, наказание такое, потому и называют ведьму — карга, мол, насылала на людей порчу и проклятия, — а вот тебе 300 лет падалью питаться в вороньем обличьи.
— Колись я воронятка знайшов під деревом, живенького, та не чіпав, відійшов подалі і дивлюсь — обидва з’явились, і він і вона, і той, що більший, якось обома лапами підхопив і переніс його додому, до дупла, чи то гнізда — знизу не розгледів.
— И что?
— Скоріш, то не кара — а перевиховання. Перевтілення… Когось — у ворона; оно — жаби — кожна друга з райради; а п’яниць — у риб, пий скільки завгодно.
— То есть, следуя за классикой, один из братьев Опарышей, обращенный в карася, мог бы проглотить родного брата в обличии опарыша… Только кто ж об этом думал? Не думали и не боялись. Временами, как прижмет, возможно, и доходило, каялись, « я всі гріхи беру на себе»… А как примут, хильнут — э-э… какое там…
Вася молчит. О чем он думает? О ком? Так все же — карать или учить?
Мы идем вдоль посадки молодняка. И сосенки радуют глаз, и ароматы согретой хвои все еще перебивают запах химикатов с карьера, но ветер меняется, собачка моя уже учуяла и вопросительно косится на нас.
— А вот тому — слившему эту гадость — что? Знаешь, я сейчас надумал: а что, если таким вот присуждать не срок или не только штраф, а лет, скажем, на пять — заменять фамилию, и в паспорте тоже, и в ведомости на зарплату, кругом, к примеру — был Степан Гацько — а стал Степан Гімнозлив, то есть что-то обидное, как клеймо, чтобы и дети его стыдились. А?
— Хіба що… — Вася хмыкает, и я чувствую, что и у него в голове крутятся Романи Брехуни и Валентины Ханурье, Віктори Крадії и Вовчики Враги-Украины.
— Ні, мабуть, не вийде… Забагато таких степанів, кому і прізвиська «сталін» буде недостатньо. А для деяких — мало не реклама чи абонемент до якогось елітного клубу… Ну, що, закинемо? — меняет он тему. — Торік бачив я двох коропів, котрі цілувалися. По метру кожний або більше. Тако по центру стояли, цілувалися. А потім один пішов.
— А второй?
— А потім і другий… Колись Опришки зарибили. Вовчик ще працював на рибхозі, вкрав та сюди привіз. Риба тут є.
И мы втроем с полчаса сидим, куняем, глядя на неподвижные поплавки.
***
Нема дощу. Третій місяць нема. Все горить. І люди тягають відра. На рибу?.. Е-ге… Яка риба — картопля, квасоля, кущі, дерева. Треба носити…
— Аномалія, — каже Валера.
І простуючи селом десь о десятій ранку, іде неквапливо і рибу не ховає. Не ховає.
А кожного забирає: «А я завтра, так, завтра…» І гадає: «А де ж він її взяв? З моста? Або ж на широкій…» І чутно, чутно, як хвіст риби періодично торкається землі й пожухлої травички, і стертої на пудру стежини, і рибацького серця, торкається, наче за щось пробачає… «А, може, на ставку чи на кар’єрі? Або ж?.. Завтра! Так! Завтра зрання!» Ноги вже танцюють, а старий Хилько вже бігає, і у кожного у відрі буцімто щось треться, лоскоче, ходить, ляпає, на кіло, може, а, може, й на півтора-два…
— Хоч би хто додумався поставити насоса, — качая головой, вздыхает Валера, — ой, село ми село! — вздыхает так, будто сам уже поставил, и наладил, и, как в Израиле, подвел капельное орошение под каждый куст картошки и единственную яблоню.
***
— Я тоді вже не пив, — розповідає Валєра, — п’ятниця, сиджу біля хати, а тут під вечір Гальчин кум привіз із Києва поляків. Двоє… Ксьондзи, чи то пастори. А напередодні він подзвонив до мене і між іншим питає, може, горілочки привезти, а я йому: «Ні, все, полишив, зав’язав». А він: «Ой, як то добре, бо вони вже двічі на таке ханурьо наривалися, страшне!»
Коротше кажучи, приїхали. Непрості — на «мерсі». Заходять, озираються, — Валера поднимает брови, выпячивает губу, — я прошу до хати, а Гальчин кум: «Ні-ні, не треба, ми тут». Звісно, що у мене дивитися. Ну, розпитують, куди завтра підемо, і на кого, і на що, а під кінець молодший ксьондзик каже щось таке про вудку, мені здалося: «А чжи ма пан вудку?» — і якось дивно посміхається.
Що таке, думаю? Што за вопрос? Я ж не знав тоді, що «вудка» польською це — «водка», горілка; а я собі — про рибу, про вудки.
А кум теж польською не дуже, — пояснює Валера. — Отакої… «Звісно, — кажу, — вудки маю і вам приготував. Вам скільки, дві? Три? Чотири?»
Хилько подмаргивает мне, мол, сейчас и не то будет, а Валера продолжает:
— Перезирнулися вони, а старшой тако приватно говорить: «А иле звыкле пан? В своей месцовощи?» Відповідаю: «То яка вже кваліфікація. Кому й однієї забагато, а хто — і п’ять, і шість бере…»
Вася посміхається. А Хилько вже хекає.
— «Езус Мария! — не вірять. — Йедэн?» — перепитують. «Є і у нас, — кажу, — майстри». «А пан?» — ще приватніше, до мене. «Ні, то не моє, я хижака ловлю. Одну кину, а з другою — берегом іду собі, закидаю. І вам раджу: тако — веселіше».
Валера замолкает, а народ уже и «хе!» И «га!» И «ой!» Меленько рассыпает Хилько; покашливает, сощурясь, Данилыч. «Хо-хо!» — басит Вася.
— То й шо, не схотіли з тобою?
— Ні, не схотіли, поїхали на зрайківські стави. Там тоді Надька Руда сторожувала…
— Надька?!
— Ковтонючка?!
— А-ха-ха-ха! О-хо-хо!
Тут усі вже регочуть, окрім хіба що сплячого у буді Бурка.
***
То як можна дорікати за рибу?! А жінки дорікають: «Чого? Навіщо туди бігти? Бодай би риба була?!». Дорікають — тому, що до річки, до Нарічки нашої, як до дівчини або ж до Надьки-паскуди… «Чого? Куди?! Роботи нема?!»
Хто своєму чоловікові не дорікає — у Рачках одна Ніна така. І сама працює, як каторжна, — на роботі в лікарні, і була в каеспе, і три ділянки має, — а грошей мало, два сини в Києві, студенти. І Петро в Ніни з головою і руками — майстер: і токар, і слюсар, і зварювання, і шиномонтаж.
А, може, тому що Петро — красень?
Чорнявий, стрункий і начебто час його не чіпає — молодий! О!.. Жодна не встоює від того жесту. Що з ними робиться!.. А він про це знає, і про руки, такі хвацькі, але ж елегантні. Коли він заходить, наприклад, до магазину і пропонує дістати йому оту з верхньої полиці «з гвинтом», і жіночка лізе драбиною. «Оцю? — а ніжки в неї тремтять, — Оцю?» — повторює, підводячи очі. І тут він робить отого руха середнім пальцем правої руки — якось донизу й угору. «Ні, оту», — видає з придихом і робить крок до неї, бо вона зараз впаде і розчавить усю бакалію.
Взагалі-то Петро — не рибак. Раз на рік стане на мосту, жилку на середній палець і тако стоїть, підсмикує, наче йому набридло, але ж кожного разу бере, і не малу — щуку, не щучку. Теж, мабуть, і риба клює на такого…
Коли зухвалівський голова закрив ставок, що по дорозі на Лохвин, а старий Хилько бачив, що він туди впустив, яких велетнів, люди спершу вирішили: ані копійки йому не платити, але минув рік, і кожен з шести видатних рачківських короп’ятників вийняв-таки 50 гривнів і о четвертій ранку останньої серпневої суботи вже сидів на своєму місці. Ставок був невеличкий, всі були, як на долоні, всі наші. У кожного по дві вудки, по два садка, обов’язково — підсака, стільці, плащі тощо. Хилькові напередодні наснилося щось геть неймовірне. І всі пильнували, сиділи мовчки, а ні в кого не було жодної покльовки, але ж було таке ворушіння, наче хтось там у глибині ходить і ось ледь торкнувся своїм боком і пішов далі. Сонце зійшло непомітно, і тут з’явивсь Петро, той самий, кого чекали менш, ніж будь кого іншого. Він прийшов так, по дорозі, — мабуть, квитка хтось подарував чи подарувала, прийшов без стільця, з однією вудкою, і відчуваючи напругу, поздоровкався голосніше ніж треба. Йому відповіли, і напруга зросла, наче хтось там, у глибині, дав команду крутити рулетку. У ставку щось зрушилося, поплавки, наче свічки, зателенило — перший-другий, перший-другий, і так по черзі, за часовою, перший-другий, перший-другий, і у старого Хилька, який сидів перед Петром, другий поплавок зрушив, наче хтось облизнув картопельку, і всі це побачили і почули його внутрішній стогін. Але взяв короп у Петра, і взяв так добре, так міцно вчепивсь, як колода, — і надії, що зірветься, не було. «Красиво взяв!» — казали потім. «Аркодужно!» — додав би Валєра, маючи на увазі перегинання вудки, але ж коропи не його парафія.
Петро підтягував якісно, дав ковтнути, і у відблисках сонця вся сімка розгледіла кілограмів на шість, або шість з половиною. Петро підтягнув іще ближче і, помацавши підсаку, здогадався, що не взяв, забув вдома.
— Хлопці, дайте хватку, — попросив він, не звертаючись до когось особисто, бо хтось завжди мав вже нести, бігти допомагати. Але щось було не так.
— Хлопці, дайте ж підсаку, — знов завів-застогнав.
І старий Хилько вже ворухнувсь. Але інші мовчали. Мовчали, тому що розуміли: як не дати, тим паче — Петру, майстру, до котрого кожен звертавсь і буде, але ж у кожного буркотіло: «а чого це я?», «а якщо він зламає, бо у мене слабка» чи «оно — Хилько сидить ближче», «а якщо зара і у мене як візьме, а підсаки нема?», чи «свою треба мати», чи «Василю б — залюбки», чи «прийшов тут», чи «не хочу й годі», чи жаба взяла.
— Хлопці, чого це, дайте, скоріш! — залементував, озираючи ставок.
І тут він припустився двох помилок. По-перше, зробив того жеста, який діє виключно на жінок, а, по-друге, підтягнув — хто ж це робить?! — вище, ніж треба, і короп здригнувся, смикнувся і зійшов.
Так потім і казали: «Упустив». То ж навіть дитині відомо, не можна так високо підтягувати…
— А короп’яга хороший був.
— Так, непоганий…
***
Мне приснилось однажды, что кто-то с Шануйливки или, может, с Великих Цебек, как тогда насчет каеспе, по телефону вполголоса порекомендовал нашему председателю насчет Нарички, и тот шепнул: « Беріть!» И побежало по людям, по дворам. И кто с чем мог, рванул до Нарички — кто к лодкам, кто на телеге, кто с ведрами, — а та уже притихла, течение стало, и на глазах она затягивалась пылью, мелела, и желтел очерет. И люди не знали, что брать, что носить, что рубить — кто-то успел кинуть шланг от насоса, кто хватал выползающих раков, а Леня подогнал своего грузовичка на Данильчину яму и тыкал вилами в черноту, и вилы с хрустом вонзались в тело, но рыба не трепетала и не подергивалась — была уже неживой, несвежей. И пока он накидал в кузов и довез до хаты — дух пошел такой, что Катя замахала руками, мол, нащо? «А на добрива?» — «Геть! Геть!»
И Леня погнал машину на провалля…
Река уже ссохлась и трескалась, и выгибалась засохшая грязь, и занялся очерет, потянуло дымом, и он, черный и сладковатый, ел глаза, и лица темнели… Хорошо, птицы успели взлететь и потянулись куда-то…
Такие сны снятся под утро. И веришь им, почему-то веришь.
Набросив куртку, я выскочил из хаты и тут же озяб, и дрожал, прислушиваясь и вдыхая утреннюю прохладу. Над рекой поднимался туман…
***
«Дождь перестал и вновь пошел…»
Что такого в этих словах, почему не отпускают? Касаются времени? Его материи? Его основы? Гармонии, когда и сама жизнь, и размышления о ней совпадают, а суета уходит?.. Ось вона — течія часу на рибі, о которой один скажет — « непогано брало», другой — «не багато, але є», третий — «та хіба ж це кльов » или «о-о… відкупилася».
Кому восхищение, и уважение, и зависть — «шалено брало!», а кому отчаяние — «не хоче! не бере!». А кому-то в добавление к улову, подаренному рекой, — вольготные размышления и необязательная беседа.
«Ні, зрання, звісно, якщо бере, розмови не буде». А вот когда уже развиднелось, тогда — да. Но лучше всего — вечером, после позднего обеда, на закате.
«Вечерний клев, вечерний сон — как много дум наводит он». Хорошо сказано... Пришли, сели. Удочки — у кого две, у кого три — на вечер больше не берут. И я с одной. Сижу, куняю… Полоса за «реактивкой» расплывается в небе и показывает, как со временем меняется и пространство. Полоса все шире, размытей, но таково на бесконечных небесах. А здесь, на рыбе, между редкими поклевками, кажется, что ничего нигде не происходит: те же река, и камыши, и соседи.
— Кажуть, час іде не рівномірно, а немовби порціями, чи то...
— Каплями, — подсказываю я.
— Квантами, — уточняет Валера.
— Точками и тире, — добавляю я.
— Нехай... А між ними — пауза, тиша. Наче між покльовками.
— Пауза созерцания у каждого своя…
— Тобто час у кожного свій, персональний, — решает Валера, — тому в одного клює частіше, а в іншого — не хоче.
— Вот и я думаю: эта пауза зависит от того, зачем человек пришел сюда: за рыбой или так — помолчать в тишине…
— Чи то побалакати...
— Або ж на природу, до річки. Так?
— И рыба это чувствует: у Васи — вон сколько, а у меня...
— Зараз зовсім не буде брати... Базікали...
— Вася, клює! — я еще не крикнул, а он подсекает. В воздухе блестит серебро.
— Плітка?
Але відповіді не чутно...
На реке снова тихо, даже камыши не шумят.
***
Однажды на закате я вынул «дикого карася». Абсолютно круглый диск червонного золота, размером с уходящее солнце, или чтобы кому-то было понятней — величиной со среднюю тарелку из немецкого сервиза «Мадонна», где золота больше, чем всего остального.
— О-го! — сказал Вася. — Я років зо тридцять жодного не бачив.
И мы поспешили уложить его в кулек с водой и, придерживая вдвоем — я за ручки и снизу, а Вася, зажимая пальцами то место, где кулек протекал, — понесли домой и донесли, и выпустили в большую Даныльчину балию, мгновенно заигравшую солнечными бликами.
Вася долил воды, и «солнце» пошло по кругу, словно по арене цирка. И стало в центре.
Мне казалось, что с реки прибежали мы быстро, и в сумерках никого не встретили и не видели, а люди подходили, протискивались дети, и Бурко не брехав, признавая соседей и других сельчан, и Данилыча с Петровной, и Хилька, и Валеру. Подошли и Михайло с сыновьями, и Нина с Петром…
Карась молчал, как молчаливое чудо, торжественно и красноречиво.
И никто не спрашивал ни о чем, ни «где взял», ни «на что».
Я боялся, что кто-то сравнит его с тарелкой, и не дай боже — со сковородкой, и углядит золотистую подрумяненную корочку, но даже Леня Катин не суетился, а народу прибавлялось — Лемедюки, коропятники, голова, рачкивские, зухваливские… Подошли и стали Опрышки, и звезды светили сквозь них, и все шануйливские, и великоцебешние. І мертві, і живі, і ненароджені…
Из Большой Реки над нами глядели мальки и планеты…
И я взял ведро, и перелил туда чудо, и понес до Нарички, возвращать.
***
Я не помню, чтобы на вечернем клёве дождило. Бывало, вдруг пойдут круги по воде, точно от мелких капель, и уже задираешь голову, мол, интересно, откуда же набежало, а там чисто, легкие перышки.
Что такое? Да это мальки склевывают что-то с поверхности, круги множатся, а кажется — моросит.
Не помню я на вечернем клёве дождя. С одной стороны, понятно, — в дождь не выходили. А если гроза? Здесь грозы набегают мгновенно. Но и их на вечернем не помню.
«Дождь перестал и вновь пошел...» Бедный принц. У нас же, в Рачках, на вечернем, как водится — и тихо и ясно. Лето прошло, и на закате нежарко, задумчиво. Кажется, что и рыба окунается в неспешную нашу беседу, во взаимное созерцание. «Прислухалась і більше не бере».
Из-за поворота, по течению випливає Хилько. Він мовчки проминає повз нас, мабуть почувши Василеві нарікання. І зникає за рогом. І звідти, здалеку, лунає щось начебто схоже на його — Хилькове — буркотіння: «Небачубляколиклює». Ні, щось не те…
«Прощай … и помни обо мне…» — слышится мне издалека.
— Ти чув, Васю?
— Валера, ты слышал?
Молчание...
Нарічкина течія — вот эталон.
***
Зухвалівка, Шануйлівка, Великі Цебеки … И километры, и фамилии — все я вам наврал. А что делать?! Приходится шифроваться, менять названия, имена. И я вам скажу, почему… Причина не в том, что кто-то обидится или озлится, или там какой-нибудь местный гетьман подошлет казачков своих. Что у меня брать? Нет у нас ни коровы, ни собаки… Разорить? Сад порубать? Подпалить хату? Не приведи боже, конечно…
Моя причина одна — речка, река наша, Нарічка, за нее страх, никогда имени ее не скажу и все вокруг перекручу, скрою, переименую — ради нее, чтобы не то, что местность, — направления никто не узнал, не навел прицел свой диявольский… То есть в первую очередь — от своих, чтобы не узнали в каком раю, где течет и куда втекает…
***
Идет дождь. Затяжной, обложной. Все покрывает — и наших, и не наших; и обстрелов в дождь меньше, и в атаку не идут — не оттого ли, что в грязи коченеть неуютно… Дощщщщ, дощщщщщщщ — вот ты, значит, кто и от кого. Миротворец…
Как приехал, первым делом двигаю до Васи.
Смотрим новини.
— Сашко, Нінин син, — каже Василь, — приїздив на ротацію. Казав, що може і не будуть туди вертати, начебто відводять війська.
— Дай-то боже… А что Валера? — спрашиваю. — Ловит?
— Куди… П’є… Яблуню на дрова порубав. Картоплю не посадив. Голос свій продав полковнику.
— А Хилько? — Вася молчит. А я жду, не переспрашиваю, стал я что-то бояться ответов.
— Хилько? А що йому зробиться? Казав, на Зухвалівському ставку непогано коропчики брали, і платня не така й вже… Грамів по 300–400, а деякі і з півкіла. Але ж велисопедом мені, мабуть…
Да, этой осенью мы уже вряд ли пойдем. У Васи — нога, у меня — свое. Но вот весной...
— У меня же машина, — перебиваю я Васю. — Мой бензин, твоя принада.
Треба готуватись. Скільки тої зими…




